Что ж, обширная грамотность и впрямь делает некоторые виды памяти менее важными. Поскольку мы можем записывать и сверяться с записями, нам часто нет необходимости заучивать. (А сейчас и записывать нет нужды: многое есть в Интернете.) В результате наш мозг освобождается для более сложной и глубокой деятельности. Не случайно прогресс в науке и технологии, инженерии и математике всегда происходил в культурах с высоким уровнем грамотности.
Означает ли это, что в неписьменных культурах люди отличались лучшей памятью (раз им чаще требовалось заучивать)? Сторонники этой гипотезы полагают, что в устных культурах многое запоминалось чуть ли не автоматически, а потому предания могли передаваться из уст в уста в неизменном виде год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком. И будто бы ученики Иисуса хранили предания в неприкосновенности уже потому, что это свойственно устным культурам.
Но так ли это?
Прежде всего, это противоречило бы биологии. Нейронные структуры мозга у галилеянина I века мало отличались от таковых у нынешнего жителя Нью-Джерси. Как отмечает Ян Вансина, специалист по культурной антропологии:
До сих пор не найдено доказательств, что между разным расами есть врожденная разница в интеллектуальных способностях. 2
Консенсус антропологов и историков культуры отличается от расхожего мнения об устных культурах. Как указывает Дэвид Хениги, специалист по устной словесности, представители устных культур «обычно забывают не меньше, чем другие люди». И это ставит их в невыгодное положение. Забывая информацию, они «теряют ее навсегда». Для нас забывчивость обычно не чревата подобными последствиями: нужные сведения где-то записаны. 3
Более того, в письменных культурах можно проверить точность воспоминаний. Скажем, можно сверить устное сообщение с письменным или одно письменное сообщение – с другим. Можно сопоставить и последующие письменные источники (например, разные издания учебника) с целью выявить изменения. А в устных культурах все иначе. Хениги отмечает: «Устная традиция уничтожает как минимум часть более ранних версий, заменяя их». 4
Тезис данной главы состоит в следующем: в устных культурах предания не остаются неизменными, а снова и снова подвергаются обширным изменениям. И это нельзя не учитывать, исследуя раннехристианские предания об Иисусе. Ведь в первые 40–65 лет церкви, до написания евангелий, они распространялись людьми, в массе своей неграмотными.
Чтобы подготовить почву для анализа устных преданий ранних христиан, необходимо сначала выяснить, что известно об устных культурах и о том, как они сохраняют свои предания. Начнем с интересных исследований начала ХХ века, касающихся темы грамотности и устной словесности.
Начало изучения устной словесности: сказители Югославии
Современные исследования устных культур восходят к эпохальным трудам Милмэна Пэрри (1902–1935), гарвардского специалиста по классической поэзии и эпосу, и его ученика Альберта Лорда (1912–1991). Будучи филологом-классиком, Пэрри особенно интересовался «гомеровским вопросом» (по сути, целой серией вопросов о Гомере, предполагаемом авторе великих эпосов «Илиада» и «Одиссея»). Существовал ли Гомер? Он ли создал эти книги? Да и принадлежат ли «Илиада» и «Одиссея» одному автору? И в какой степени можно считать цельным произведением каждую из этих книг? Не являются ли они антологиями более ранних сказаний, кем-то собранных воедино? Мог ли один человек составить столь обширные тексты в эпоху, когда не было массовой грамотности? И насколько реально было запомнить такое количество поэзии?
Эти вопросы давно волновали ученых, особенно немецких, британских и американских. Обычно к ним подходили через детальный анализ нестыковок и противоречий внутри самих текстов. Но Пэрри подумал, что есть способ получше: а вдруг устные культуры современного мира прольют свет на то, сколь долго конструируется, исполняется и сохраняется эпос? В качестве примера он взял Югославию.
В Югославии издавна существовали сказители: создатели и певцы устной эпической поэзии – песен, не менее объемных, чем «Илиада» и «Одиссея». В начале ХХ века эта традиция была еще жива. Пэрри захотел разобраться в ней, проведя широкую полевую работу с югославскими певцами. Он надеялся лучше понять, что происходило тысячелетиями ранее в близлежащей Греции – в эпоху, когда, как считалось, творил Гомер.
Пэрри положил блестящее начало этим трудам. Ему удалось выявить техники, путем которых сказители составляют и пересказывают свои истории, и показать, что намеки на очень похожие техники есть в письменных текстах «Илиады» и «Одиссеи». К несчастью, Пэрри трагически погиб от несчастного случая, не успев завершить исследования: распаковывая чемодан, он случайно нажал на курок заряженного револьвера. В этот момент ему было всего тридцать три года.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
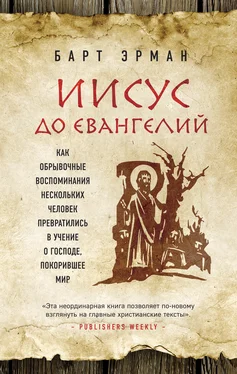









![Барт Эрман - Триумф христианства [Как запрещенная религия перевернула мир] [litres]](/books/406447/bart-erman-triumf-hristianstva-kak-zaprechennaya-re-thumb.webp)
![Барт Эрман - Почему мы страдаем? [Как получилось, что в Библии не нашлось ответа на этот вопрос]](/books/406894/bart-erman-pochemu-my-stradaem-kak-poluchilos-cht-thumb.webp)
