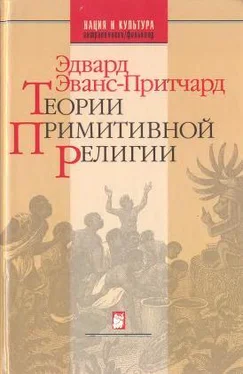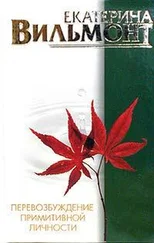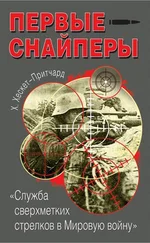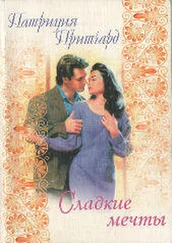И на этом я закончу вводную часть своих лекций, которая была необходима, перед тем как пуститься в плавание в океане мыслей прошлого. Как и в случае с некоторыми, а точнее — со всеми научными дисциплинами, мы найдем на многих островах могилы потерпевших кораблекрушение моряков; но, когда мы окидываем взором всю историю человеческой мысли, не следует приходить в отчаяние от того, как мало мы знаем о природе примитивной религии, да и о природе религии в целом, от того, что мы вынуждены отвергнуть как спекулятивные и только вероятные в принципе теории, претендующие сейчас на ее объяснение. Напротив, мы должны ободрить себя и продолжать наши исследования, вдохновляясь эпиграммой с могилы древнегреческого моряка:
Моряк, чей корабль разбился, чье тело зарыто здесь,
Взывает к вам. — снова идите в поход.
Наполните трюмы прекрасных судов,
Невзирая на нашу гибель.
II. Психологические теории
Теория Председателя де Бросса 33 [de Brosses 1760], современника и корреспондента Вольтера, согласно которой религия развилась из фетишизма, пользовалась авторитетом до середины XIX века. Основное ее положение, принятое Контом [Comte 1908], состояло в том, что фетишизм, согласно португальским морякам, — поклонение неодушевленным объектам и животным, распространенное среди негров побережья Западной Африки, — развился в политеизм, а последний — в монотеизм. Это положение было заменено теориями, сформулированными в более наукообразных терминах и испытавшими влияние ассоционалистской психологии того времени, которое можно обозначить как теорию духов и теорию души; обе признавали само собой разумеющимся, что мышление «первобытного» человека, в сущности, рационально, но попытки последнего объяснить явления, ставящие его в тупик, примитивны и ошибочны.
Но прежде чем эти теории стали общепринятыми, они должны были выдержать конкуренцию с теориями природно-мифологической школы; соперничество обострялось тем, что обе школы разделяли интеллектуалистский подход. Вначале я кратко рассмотрю объяснение религии с помощью концепции природного мифа, во-первых, потому, что она была первой по времени, а во-вторых, потому, что смена парадигм, имевшая место позднее, представляла собой реакцию на анимистические теории в то время, когда теория природного мифа уже утратила свое значение, по крайней мере в Англии, не имея ни продолжателей, ни влияния.
Школа природного мифа была по преимуществу германским явлением и занималась в основном изучением индоевропейских религий; ее постулаты гласили, что боги античности, а по аналогии — боги везде и во все времена были не чем иным, как персонифицированными природными явлениями: солнцем, луной, звездами, зарей, весенним возрождением, могучими реками и т. п. Наиболее значительным автором, принадлежавшим к этой школе, был Макс Мюллер (сын поэта-романтика Вильгельма Мюллера), германский представитель солярно-мифологической разновидности этого направления, различные ветви которого ругались друг с другом. Большую часть своей жизни Макс Мюллер провел в Оксфорде, где он занимал профессорскую должность и был членом разнообразных научных обществ. Он был лингвистом исключительных способностей, одним из ведущих санскритологов своего времени и в целом — человеком громадной эрудиции и подвергался весьма несправедливой критике. Он не был готов заходить столь далеко, как некоторые из его более рьяных немецких коллег, не только потому, что в Оксфорде того времени опасно было слыть агностиком, но из религиозных убеждений, поскольку был набожным и сентиментальным лютеранином. Он занял довольно близкую позицию, изощряясь и лавируя во многих своих книгах в попытках отрицать это; многие его идеи выражены неясно и непрозрачно. Согласно его взглядам, как я их понимаю, человеку всегда было свойственно интуитивное чувство божественного, идея бесконечного (термин Мюллера для Бога), вытекающая из его чувственного опыта; следовательно, мы не должны искать истоки Бога в примитивном откровении или в религиозном инстинкте или в некоей религиозной способности, как это делали тогда некоторые. Все человеческое знание приходит через чувства, то есть через прикосновение, дающее обостренное впечатление реальности, и все наши рассуждения, включая религию, базируются на этом: nihil in fide quod non ante fuerit in sensu 34 . Итак, вещи неосязаемые, такие, как солнце и небо, дали человеку идею божественного, а также представили материал для создания божеств. Макс Мюллер не хотел быть понятым так, будто бы он полагал, что религия началась с обожествления человеком величественных природных объектов; скорее он имел в виду, что эти объекты дали человеку чувство бесконечного (божественного), а также стали его (божественного) символами 35 .
Читать дальше