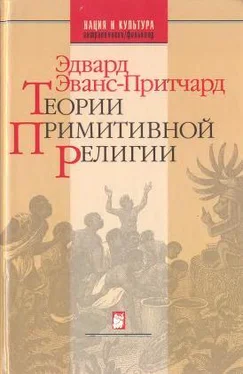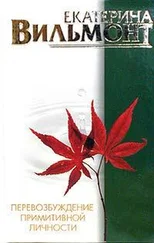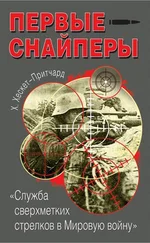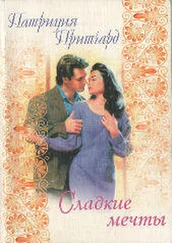Мой ответ на вопрос, заданный в начале предыдущего абзаца, должен состоять в следующем: я думаю, что поскольку сформулированная проблема, сколь она ни широка, тем не менее реальна, предложенные ответы не впечатляют. Я бы предложил продолжить исследования данного предмета, пока воздержавшись от ответов. Сравнительное религиоведение — это предмет, вряд ли представленный в наших университетах, а данные, используемые теми, кто представляется таковыми, происходят в конечном счете из священных текстов, теологических трудов, экзегетики 106 , работ мистиков и прочих. Но для антрополога или социолога, я думаю, это наименее важная часть религии, поскольку совершенно ясно, что исследователи, которые писали книги об исторических религиях, иногда были не уверены в том, что даже ключевые слова оригинальных текстов означали для авторов. Филологическая реконструкция и интерпретация этих ключевых слов часто ненадежна, противоречива или неприемлема, например, как в случае со словом «бог». Изучающие древнюю религию или религию на ее ранних стадиях не имеют других способов, нежели исследовать ее на основе текстов, — современники текстов давно умерли, и нет возможности их опросить. Могут возникнуть серьезные искажения, как, например, в том случае, когда утверждают, что буддизм и джайнизм — атеистические религии. Несомненно, они могли рассматриваться как системы философии и психологии их создателями, но мы вполне можем спросить: а были ли они таковыми для обычных людей, — а ведь именно жизнь обыкновенных людей интересует антрополога в первую очередь. То, что наиболее важно для него — способ, каким религиозные верования и практики в любом обществе воздействуют на мышление, чувства, жизнь и отношения людей. Мало книг описывает и анализирует в сколько-нибудь адекватной форме роль религии в каких-либо индуистских, буддистских, исламских или христианских общинах. Для социального антрополога религия — это то, что она делает. Я должен добавить, что такие исследования примитивных народов — весьма редкое явление. И в цивилизованных, и в «примитивных» обществах здесь заключено огромное и совершенно нетронутое поле для исследований.
Далее: сравнительное религиоведение должно быть сравнением сфер отношений, если материал, составляющий его ценность, — первичные данные. Если сравнение ограничивается просто описанием: христиане верят в это, мусульмане — в то, индуисты — в другое; или если даже сделан следующий шаг и произведена классификация: зороастризм, иудаизм и буддизм — религии пророков; индуизм и буддизм — мистические религии (или определенные религии одобряют мирское, а другие — отрицают), мы не продвинемся далеко в направлении понимания сходств и различий религий. Индийские монисты, буддисты и манихеи — все могут быть похожи в желании освободить тело и быть независимыми от мира чувств, но вопрос, который мы бы задали, это: связан ли этот общий элемент с какими-нибудь другими социальными фактами? В этом направлении была сделана попытка Вебером и Тоуни [Weber 1930; Tawney 1944], сопоставившими определенные протестантские учения с определенными экономическими изменениями. В самом деле, я далек от намерения принизить исследователей сравнительного религиоведения, используя этот критерий, поскольку, как я надеюсь, было видно из этих лекций, что мы, антропологи, тоже не сделали значительных успехов на поприще сравнительного исследования отношений; а я считаю, что только этот вид исследований способен привести нас к жизнеспособной социологии религии.
В заключение я должен признаться, что не чувствую, что различные теории в нашем обзоре в целом и по отдельности дают нам нечто большее, чем просто догадки на уровне здравого смысла, да и те по большей части не попадают в цель. Если мы спросим себя, как мы обычно делаем, имеют ли эти догадки какое-то отношение к нашим собственным религиозным переживаниям, делают ли они, скажем, более значимыми для нас слова: «Мир оставляю вам, свой мир даю я вам…» — боюсь, что ответ будет в том, что они имеют к этому малое отношение, и это может наполнить нас сомнением относительно их ценности для объяснения религий «примитивных» народов, которые, к сожалению, не могут подвергнуть эти гипотезы такой же проверке. Причина такого положения, полагаю, частично мной уже указана, она — в том, что исследователи искали объяснение в терминах начал и сущностей вместо отношений, а далее я предположу, что из их положений следовало, что души, духи и боги реально не существуют. Ибо, если считать, что они только иллюзии, тогда, похоже, должна быть призвана какая-нибудь биологическая, психологическая или социологическая теория, чтобы объяснить, как, везде и во все времена, люди были так глупы, что верили в них. Тот, кто согласен с тем, что духовные существа реальны, не ощущает подобной необходимости в их объяснении, поскольку, как бы неадекватны ни были у примитивных народов концепции души и Бога, — они не были для них иллюзиями. Что касается изучения религии как фактора социальной жизни, то не имеет существенного значения, является ли антрополог теистом или атеистом, так как в обоих случаях он может учитывать только то, что может наблюдать. Но если любой из них попытается пойти дальше, то каждый должен идти своей дорогой. Неверующий ищет некоторую теорию — биологическую, психологическую или социологическую, — которая способна объяснить иллюзию; верящий скорее пытается понять способ, которым люди представляют себе эту реальность 107 , и свое отношение к ней. Для обоих религия — часть социальной жизни, но для верующего она также имеет и другое измерение. В этом моменте я согласен со Шмидтом в его опровержении Ренана:
Читать дальше