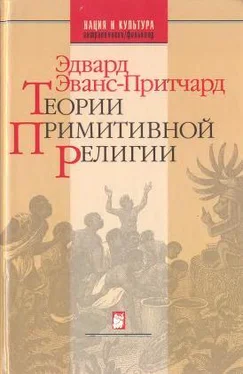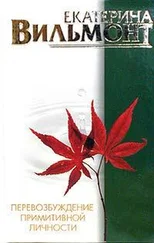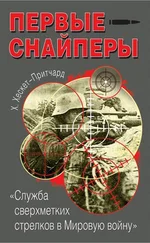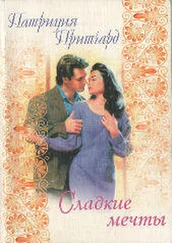За нами, европейцами, — столетия строгих интеллектуальных размышлений и анализа, отмечает Леви-Брюль. Следовательно, мы логически ориентированы, в том смысле, что мы обычно ищем причины явления в естественных процессах и даже тогда, когда мы сталкивается с феноменом, который не можем научно объяснить, мы полагаем, что это происходит только вследствие недостаточности наших знаний. Первобытное мышление имеет в принципе иной характер. Оно ориентировано на сверхъестественное [Lévy-Bruhl 1947: 17–18].
Отношение к действительности первобытного человека совершенно другое. Характер среды, в которой он живет, представляется ему совершенно иным образом. Объекты и события вовлечены во взаимосвязь мистических сопричастий и запретов. Именно они образуют текстуру и порядок среды. Именно они затем немедленно привлекают его внимание и только они его удерживают. Если объект интересует первобытного человека, если он не довольствуется его, так сказать, пассивным восприятием, тогда сразу же в его мозгу возникает подобие рефлекса — и он думает об оккультных и невидимых силах, которые этот предмет воплощает.
Если спросят, почему «первобытные» люди не вникают в объективные причинные связи, как это делаем мы, ответ будет такой: им мешают сделать это их коллективные репрезентации, которые дологичны и мистичны.
Эти положения были сразу же отвергнуты британскими антропологами, чья эмпирическая традиция заставляет их считать ложным все, что похоже на философские спекуляции. Леви-Брюль был просто кабинетным теоретиком, который, как и большинство его французских коллег, никогда не видел «примитивного» человека, тем более не говорил с ним. Думаю, что могу претендовать на то, что я один из немногих антропологов здесь или в Америке, кто выступил в его защиту, не потому, что я согласился с ним, а потому, что я считал, что критике должны подвергаться действительные взгляды ученого, а не те, что ему приписывают. Моя защита является поэтому видом экзегетики [Evans-Pritchard 1934], попыткой объяснить, что Леви-Брюль подразумевает под своими ключевыми выражениями и понятиями, которые пробудили столько враждебности: логическое, ментальность, коллективные представления, мистическое, сопричастия. Эта терминология делает его размышления неясными, во всяком случае, для британского читателя, поэтому очень часто остаешься в сомнении, что же Леви-Брюль хотел сказать.
Леви-Брюль называет логическими такие образцы мышления (магико-религиозного мышления, он не делал различия между магией и религией), которые кажутся столь же истинными «первобытным» людям, сколь они абсурдны для европейцев. Под «прелогическим» он имеет в виду нечто совсем иное, по сравнению с тем, что приписывали ему критики. Он не считает, что «дикари» неспособны мыслить связно, — просто большая часть их верований несовместима с критическим и научным взглядом на мир и полна противоречий. Он не говорит, что дикари тупы, — просто их верования для нас непонятны. Это не означает, что мы не можем уловить ход их рассуждений. Можем, поскольку они рассуждают совершенно логично; но в логике своих рассуждений они исходят из таких посылок, которые для нас абсурдны. Они разумны, но рассуждают в категориях, отличных от наших. Они логичны, но принципы их логики иные и не принадлежат логике Аристотеля. Леви-Брюль не говорит, что «логические принципы чужды умам дикарей — утверждение, абсурдность которого очевидна уже в момент его формулировки. „Прелогический“ не означает алогичный или антилогический. „Прелогический“ применительно к „первобытному“ складу ума означает просто, что этот ум, в отличие от нашего, равнодушен к противоречиям. То, что, на наш взгляд, невозможно и абсурдно, им часто принимается без всяких затруднений» [Levy-Bruhl 1931: 21]. Здесь Леви-Брюль выразился слишком тонко, так как он имеет в виду под «прелогическим» несколько большее, чем «ненаучный» или «некритичный», а именно — что первобытный ум рационален, но ненаучен и некритичен.
Когда Леви-Брюль утверждает, что «первобытное мышление» или «первобытный ум» — логичны, безнадежно некритичны, он говорит не об индивидуальной способности или неспособности рассуждать, а о категориях, в которых мыслит первобытный человек. Он говорит не о биологической или психологической, а о социальной разнице между нами и первобытными людьми. Отсюда также следует, что он говорит не о типе мышления в психологическом смысле: интуитивный, логический, романтический, классический и т. д., а об аксиомах, ценностях, чувствах, — примерно о том, что иногда называют моделями мышления, и о том, что у примитивных народов они носили в основном мистический, не подлежащий верификации, нечувствительный к опыту и безразличный к противоречиям характер.
Читать дальше