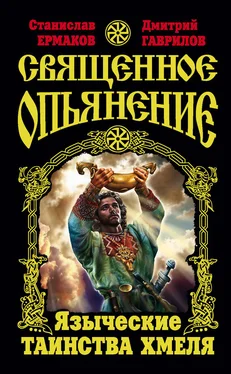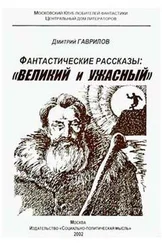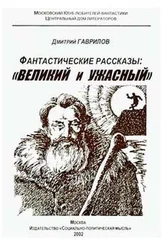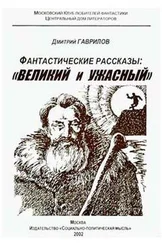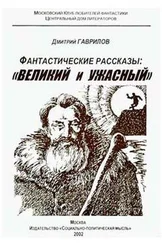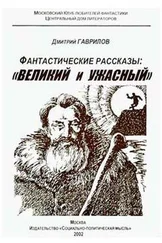Вторая его «грань» неким образом будет отсылать нас к мифу о творении, ибо внутренний путь человека, рассматриваемый как цепочка посвящений (переходов), всегда возвращает нас к его рождению, а следовательно, к первоначальному моменту бытия Вселенной.
Уместно оговориться, что на значимость высказанной мысли указывает не только уже неоднократно упомянутый «котел перерождения» [69], который становится здесь в один ряд с котлами с кипящей водой и молоком русских сказок (где гибнет недостойный и преображается достойный). Многие довольно глубокие мистики позднего времени, такие, как, скажем, «последний алхимик» Р. Фулканелли (Фулканелли, 2008) или Ю. Эвола (Эвола, 2000), отмечали инициатический – то есть посвятительный – характер ряда алкогольных напитков (например, абсента).
Вопрос о переходной обрядности требует особого рассмотрения, а возможно, как таковой вообще не должен обсуждаться открыто – по крайней мере, в какой-то своей части. Тем более, когда речь касается столь деликатной темы, как путешествие Туда, в Иномирье, и Обратно.
При Иване III в Московском княжестве право приготовления опьяняющих напитков полностью переходит в веденье казны. По княжескому указу корчмы открываются в городах только с ведома государева двора, а право на варку питейного меда остается только у монастырей. Монастырские меды, конечно, весьма славятся, в монастырях сохраняют древние способы их приготовления, но об обрядовом их предназначении уже говорить бессмысленно… Хотя сам факт передачи им такого права говорит, на наш взгляд, о многом. Начинается окончательное крушение древнего обычая.
Упомянутое только что слово «корчма», ныне безусловно связываемое с питейным заведением, общеславянское (вост. – слав. корчма , болг. кръчма , словен., чеш., слвц. krčma , польск. karczma , в. – луж. korčma , н. – луж. kjarcma и т. д.). Его первоначальное значение неясно. По мнению М. Фасмера, слово восходит к «промышлять мелочной торговлей, ростовщичеством». Кроме того, «Младенов (259) относит эти слова к болг. кръкам «шумно есть, пить», сербохорв. крчати «жужжать, ворчать», словен. – то же, чеш. krkati «отрыгивать» и сравнивает с образованием слова ведьма… Другие предполагают связь с корчага; ср. нем. Krug «кувшин» и «трактир» (Mi. EW 152; Брюкнер 220; KZ 48, 192). По мнению Потебни (РФВ 5, 143 и сл.), Желтова (ФЗ, 1876, вып. 2, стр. 67), Ягича (AfslPh 7, 484 и сл.), корчма, первонач. «хозяйство на раскорчеванном месте», от корч I. Желтов (там же) приводит выражение сидеть на корю (ср. корень)» (Фасмер).
Этимологическая справка приведена нами по той причине, что общеславянское распространение слова может подсказать два направления дальнейших поисков. Во-первых, оно дает пусть слабую, но надежду на прояснение того, когда происходит смена отношения к охмеляющим напиткам как к чему-то исключительно священному (невзирая на то, что, как мы видели ранее, собственно обычай сохранялся у русских крестьян до XX в.) и появляются общественные питейные заведения.
Во-вторых, возможно обратное. Если наши разыскания в области мифологии отчасти отражают истинное положение дел, – а мы осмеливаемся полагать, что так оно и есть на самом деле, – то понимание происхождения слова проливает свет на первоначальный статус такого заведения. Следовательно, дает новые штрихи к пониманию уклада жизни наших очень далеких предков.
С XVI–XVII вв. слово «корчма» в Московской Руси постепенно уходит из живого языка, его заменяет « кабак », происхождение которого тоже спорно, однако, по мнению большинства языковедов, нерусское. Кабак – питейное заведение, место казенной или откупной продажи спиртных напитков. Первый кабак появился в Москве в 50-х гг. XVI в., когда Иван IV Васильевич запретил продавать в Москве водку, а для опричников открыл это самое заведение. Все доходы от продажи хмельных напитков шли в казну. С 1555 г. кабаки стали появляться и в других городах, заменяя корчмы. В XVII в. было уже около тысячи. В 1746 г. они были переименованы в «питейные заведения», но название «кабак» приобрело нарицательное значение. В XIX в., после введения в 1863 г. государственной монополии на торговлю спиртным, словом «кабак» стали называть казенные винные лавки.
Главной причиной практически полного забвения обычая ритуальных пиров (по большому счету северорусские и вообще сельские братчины принимать во внимание бессмысленно – с учетом огромной территории всей страны) стала не борьба церкви с наследием язычества, но извечная проблема казны – нехватка средств. До этого времени, как свидетельствуют источники, пьянства у нас не знали…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу