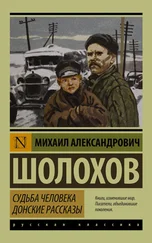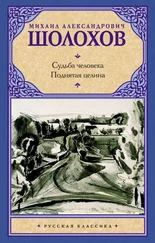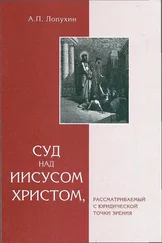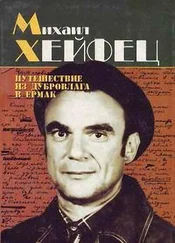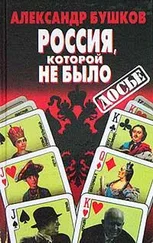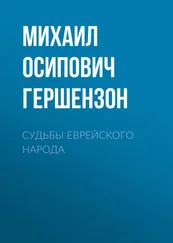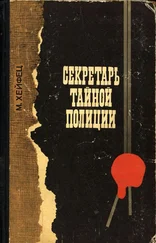Фольклор сочиняется народом, вернее, безвестными творцами, и уже только потом шлифуется теми, кто хранит и передает его из уст в уста. Агаду и мидраши сочиняли совсем не простые люди, а профессионалы — лучшие из лучших знатоков Торы, из мудрецов, из проповедников. И простые люди не смели такие тексты править… Правда, мудрецы действительно были связаны с народом (это и сделало агаду и мидраши внешне похожими на еврейский фольклор). Когда вы познакомитесь с текстом «Историей о Йешу», то убедитесь, насколько эта «агада» есть подлинно народный по стилю и духу текст. И все-таки это, повторяю, не фольклор, а скорее — особого рода литература. Можно выразиться так: народная литература.
* * *
«История о повешенном, или история о Йешу» составлена из древних агадических сюжетов Талмуда, в нее добавили фрагменты из мидрашей и, возможно (по мнению переводчика) какие-то народные сказания и интонации. По мнению одного из первых исследователей этого текста, д-ра Шмуэля Крауса, «Историю» сочинили впервые в 5 веке нашей эры на арамейском языке (10). Позже, очевидно в XI–XII вв., когда арамейский язык вышел из народного обихода, сказание перевели на иврит и заодно добавили к нему новые куски.
Легенда об Иешуа пользовалась большой популярностью у еврейских читателей: по информации переводчика, до нас дошло несколько десятков вариантов ее текста (11).
В отличие от Евангелий, мне, конечно, придется пересказать для читателей сюжетные линии «Истории» подробно.
Итак в 3760 году от сотворения мира (в разных вариантах указаны разные даты), т. е. в нулевом году нашей эры, во времена Ирода Великого, императора Тиберия и царицы Елены, жил богобоязненный человек, студент духовной академии Йосеф Пандера. Была у него добродетельная и прекрасная жена по имени Мирьям. Понравилась несчастная женщина их соседу, преступному развратнику по имени Йоханан.
Однажды ночью, на исходе субботы, когда благочестивый Йосеф пошел учиться в свой «бейт-ха-мидраш» (духовную академию), «злодей занял его место и овладел Мирьям, а она думала, что это ее муж. И Мирьям забеременела от него». Когда студент Пандера вернулся из академии, жена рассказала ему, что произошло, и «он понял, что то был сосед его Йоханаан».
Страдающий муж посоветовался с наставником в академии, потом простился с учителем и ушел в Вавилонию. «В положенное время родила Мирьям сына, назвала его в честь своего дяди — Йешуа, и обрезали его на восьмой день. И стало известно людям, что сделал с ней Йоханаан, и все смеялись над нею» (12).
Современный читатель, возможно, поразится жестокосердию «людей»: невинная женщина стала жертвой коварного обмана, семейная ее жизнь была разбита, а окружающие издевались над ней, а не над преступным развратником. Но эта деталь, по-моему, свидетельствует как раз о подлинности, о древности текста: именно так, вне морали, ощущали свой мир люди древних эпох. (Иллюстрация для сведения российских читателей: князь Владимир Святославич убил законного владельца престола, старшего брата Ярослава, забрав в свой гарем его вдову и сотни других женщин, и это не мешало ему стать любимым героем народных былин, «Владимиром Красным солнышком», а потом быть и канонизированным «святым и равноапостольным» в православной вере…)
«А когда подрос этот Йешу, то учился в бейт-ха-мидраше, и был этот Йешу смышлен и выучивал за один день столько, сколько другому пришлось бы учить много дней. И говорили мудрецы наши, благослованна их память: „Мамзеры (т. е. незаконнорожденные — М. Х. ) — они смышленые“» (13).
Исполнилось молодому человеку тридцать лет, и ничем особенным его жизнь до тех пор не была отмечена (как и в Евангелиях — М. Х. ). Но произошло мелкое, на первый взгляд, событие: шли по базару два мудреца — и в знак почтения их ученики накрывали голову и преклоняли колени перед ними. А Йешу прошел мимо с гордо выпяченной грудью и непокрытой головой. «И сказал один из мудрецов: „По его дерзости видно, что он — мамзер“ (14).
На следующий день сюжет обостряется: уже в бейт-ха-мидраше Йешу дерзнул в присутствии своего учителя обучать других учеников Закону. Один из мудрецов говорит:
— Не так ли ты сам учил: „Ученик, который обучает кого-либо законам в присутствии своего учителя, достоин смерти“? (15)
(Здесь мне хочется обратить внимание на две особенности этой пикировки: во-1-х, Йешу преподает в духовной академии — „ты учил“, говорит ему мудрец. Во-2-х, ловят гордеца на типичном противоречии — между тем, чему он учит других, и тем, что делает сам…)
Читать дальше
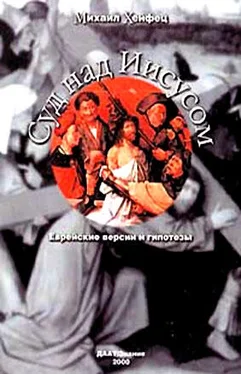
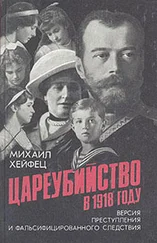
![Дорохов Михаил - S-T-I-K-S. Быстрее судьбы [СИ]](/books/28059/dorohov-mihail-s-t-i-k-s-bystree-sudby-si-thumb.webp)