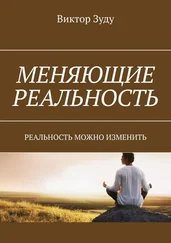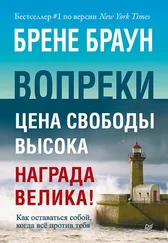Этап раскрытия начинается с перехода на уровень любопытства и осознания истории, которую мы рассказываем себе самому о своей обиде, гневе, разочаровании или боли. В ту минуту, когда мы оказываемся лицом вниз на арене, наш ум начинает работать, пытаясь понять, что происходит. Эмоции не дремлют, и самая первая реакция – желание защититься, а в такой ситуации для защиты вряд ли будут использоваться хорошо продуманные, осмотрительные и мирные способы.
Помните слова Томпсона: «Цивилизация заканчивается на берегу океана»? Вникание в суть случившегося начинается, когда у нас есть готовность, возможность и мужество «сделать шаг в океан» – войти в стихию своей истории. Это и будет началом Акта 2.
Зачем нужно отслеживать историю ситуации? Затем, что в этом неизмененном повествовании заложены ответы на три критически важных вопроса, которые воспитывают искренность и привносят в нашу жизнь мужество, сострадание и сопричастность.
Что еще мне нужно узнать и понять о ситуации?
Что еще мне нужно узнать и понять о других людях в этой истории?
Что еще мне нужно узнать и понять о себе?
Если информации нет, мы всегда будем сочинять истории. Мы так устроены. На самом деле потребность придумать ситуацию, особенно когда нам больно, – это часть нашего примитивного инстинкта выживания. Создание смысла заложено в нашей природе, и мы по умолчанию часто придумываем историю, в которой есть смысл, которая кажется знакомой и дает нам понимание наилучшей защиты. На этапе осознания мы делаем выбор в пользу неопределенности и уязвимости, пока разбираемся с правдой; и это сознательный выбор. Храбрый, сознательный выбор.
Роберт Бертон, невропатолог и писатель, объясняет, что наш мозг вознаграждает нас дофамином, когда мы узнаем и завершаем нечто новое для себя. Истории – это модели, образцы. Мозг распознает знакомую структуру «начало-середина-конец» образца и вознаграждает нас за прояснение неопределенности. К сожалению, точность не обязательна, только определенность.
Помните то замечательное ощущение, которое мы испытываем, когда впервые составляем полную картину чего-либо, разбираемся в этом или понимаем логику случившегося? «Ага-момент», как называет его Опра Уинфри? Бертон использует его в качестве примера того, как мы испытываем награду мозга за распознавание модели. Хитрость в том, что обещание этого ощущения может привести нас к тому, что мы закроемся от неопределенности и уязвимости, которые часто необходимы, чтобы добраться до истины.
Бертон пишет: «Поскольку мы вынуждены сочинять, то нам часто приходится довольствоваться неполными историями и работать с ними». Он говорит, что даже если у нас придумана только половина истории, «мы зарабатываем вознаграждение дофамином каждый раз, когда она помогает нам что-то понять в нашем мире, даже если это объяснение неполное или неправильное».
Например, в истории про озеро Трэвис я начала с части, определяемой следующими ограниченными данными:
Стив и я плаваем вместе в первый раз за последние несколько десятилетий.
Я была очень уязвима и искала душевной связи со Стивом.
Он не откликнулся на мой призыв.
Самая первая история, которую я себе рассказала, заключается в том, что Стив – придурок, который обманывал меня, притворяясь добрым и любящим на протяжении последних двадцати пяти лет, хотя настоящая правда в том, что он отталкивает меня, потому что я ужасно выгляжу в своем купальнике Speedo и плохо плаваю.
Почему именно эта история оказалась первой? Потому что «я не чувствую себя достойной» – это первая моя мысль в минуты боли. Это как мои самые удобные джинсы. Когда я сомневаюсь, объяснение «Я просто этого недостойна» – это первое, к которому я обращаюсь. История вины – это второй мой фаворит. Если что-то идет не так и заставляет меня чувствовать себя слишком незащищенной и уязвимой, то я хочу знать, кто в этом виноват. Так что в сложные моменты я в мгновение ока использую это объяснение.
Как мы называем историю, основанную на ограниченных реальных и придуманных данных, которые смешаны в единую, эмоционально убедительную версию реальности? Теория заговора. Основываясь на обширных исследованиях и истории, английский профессор и автор научных публикаций Джонатан Готтшалл рассматривает человеческую потребность в сочинительстве в своей книге The Storytelling Animal («Животное, рассказывающее сказки»). Он приводит доказательства того, что «обычные, психически здоровые люди проявляют поразительную склонность к сочинительству в повседневных ситуациях». Социальные работники всегда используют термин «придумывать», когда речь идет о том, как слабоумие или черепно-мозговая травма иногда заставляют людей заменять недостающую информацию чем-то ложным, что они считают правдой. Чем больше я знакомилась с исследованием, тем больше соглашалась с мнением ученого о том, что выдумками занимается каждый человек ежедневно, а не только в конкретных медицинских условиях.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
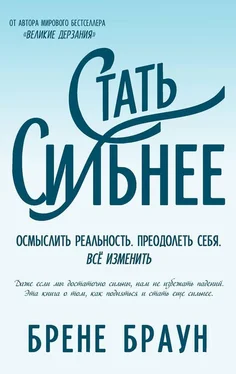
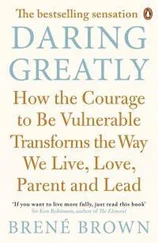
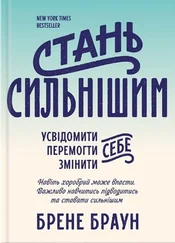
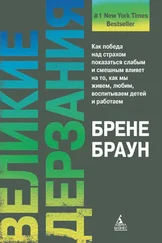
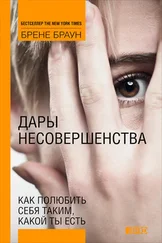
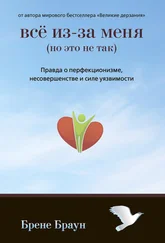

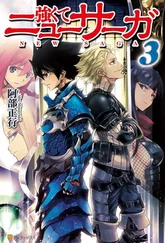

![Брене Браун - Вопреки. Как оставаться собой, когда всё против тебя [litres]](/books/436389/brene-braun-vopreki-kak-ostavatsya-soboj-kogda-v-thumb.webp)