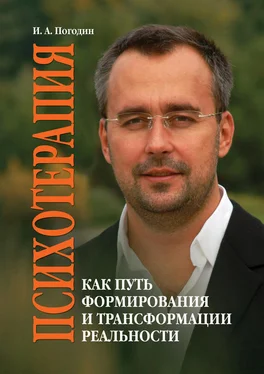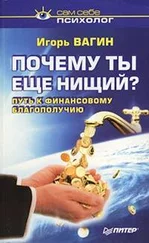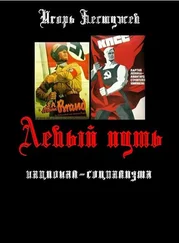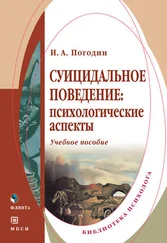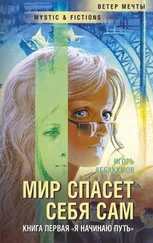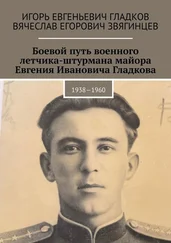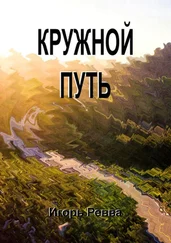Принимая в фокус наших рассуждений не только физические категории, описывающие реальность и формирующие представления о ней, но и соответствующие антропологические феномены, чрезвычайно интересным мне представляется также возможность проанализировать весьма традиционную психологическую категорию личности. Являясь достаточно устойчивым образованием, категория личности фиксируется вокруг некоторого ядра, предполагающего достаточно стабильные во времени представления человека о себе и окружающих Других. В разных психологических традициях они обозначаются понятиями Самости, идентичности, Я-концепции и т. д. При этом у человека сохраняется способность к различению себя и других, своих чувств и чувств других людей, своего тела и тела Другого.
Все три описанные категории имеют непосредственное отношение к современной клинической теории и практике. Именно вокруг этих категорий строится современная клиническая психология и психиатрия и соответствующая им клиническая диагностика. Так, например, условием нормального психического функционирования является тестирование реальности, что, собственно говоря, предполагает ориентацию человека в пространстве, времени и собственной личности. Любые отклонения от результатов тестирования реальности, разделяемых большинством присутствующих вокруг людей, являются основанием для клинической диагностики вплоть до констатации душевного расстройства психотического уровня. Это происходит при утрате способности к правильному восприятию времени (например, пациент летом сообщает, что сейчас зима), пространства (например, в кабинете врача пациент заявляет, что он находится в темном подвале), собственной личности и личности других (примером могут служить сообщения о том, что пациент является кем-то другим – человеком, животным, или другие люди наделяются некоторыми намерениями или чертами, которых в реальности не имеют). Менее очерченные и грубые нарушения личности (например, диффузия идентичности) могут свидетельствовать о пограничном личностном расстройстве.
Ревизия традиционной модели реальности
Несмотря на, казалось бы, высокую надежность и ясность диагностических конструктов, понятие психической патологии появилось относительно недавно [М. Фуко, 1997, 2005], в классическую эпоху. Однако базовые категории (точнее, представления о них), на которых строится диагностика, имеют гораздо более длительную историю. Несмотря на интерес к этой теме, в фокусе моих размышлений в настоящем эссе находится не исторический анализ возникновения категорий времени, пространства, личности и влияние их на клиническую науку (это, на мой взгляд, слишком сложная проблема), а скорее анализ обоснованности их необходимости для человека. Другими словами, я хочу подвергнуть сомнению априорность этих категорий для антропологии в целом и для клинической теории и практики в частности [66]. Итак, сформулирую гипотезу: на мой взгляд, категории времени, пространства и личности не являются априорными для определения более широкой категории реальности, не выступают необходимыми для описания и восприятия последней, а опосредуются промежуточной категорией переживания .
Сейчас пришло время раскрыть сущность и значение только что введенной категории переживания для восприятия и описания человеком реальности. Идея феноменологического по своей природе поля «человек – среда» не является новой для наук о человеке [Э. Гуссерль, 2005; К. Левин, 2001; Ф. Перлз, 2000; Ж.-М. Робин, 2006]. Впервые, по всей видимости, она ясно была озвучена Э. Гуссерлем, основателем феноменологии [Э. Гуссерль, 2005], после чего была заимствована некоторыми психологическими школами. Например, с позиций теории поля К. Левина восприятие окружающей среды опосредовано переживаемым человеком состоянием и его потребностями [К. Левин, 2001]. Так, описывая свое восприятие военного ландшафта, К. Левин отмечает, что хотя не все феноменологические свойства меняются в зависимости от статуса образа как феноменально подлинного или воображаемого, «речь идет лишь об образах, которые в свое время были пережиты в качестве реальных структур ландшафта» [К. Левин, 2001, с. 87]. К этой точке зрения присоединяются и психотерапевты, в частности, развивающие гештальт-подход [Ф. Перлз, 2000; Ж.-М. Робин, 2006]. Так, например, Ф. Перлз, разводя понятия объективной и субъективной реальности, анализирует тот «особенный интерес человека, который характеризует субъективные реальности» [Ф. Перлз, 2000, с. 53], и с легкостью демонстрирует то, что сфера интересов является решающим фактором для формирования реальности. Продолжая, он заявляет: «Мы можем пойти еще дальше и заявить, что единственная значимая реальность, реальность интересов – это внутренняя, а не внешняя реальность», и добавляет: «…специфические интересы диктуются специфическими потребностями» [Ф. Перлз, 2000, с. 53]. Современный теоретик гештальт-терапии Ж.-М. Робин, рассуждая о теории поля, разводит понятия физического и феноменологического поля, приписывая именно последнему типу силу фактора, определяющего реальность в психотерапевтическом процессе [Ж.-М. Робин, 2006].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу