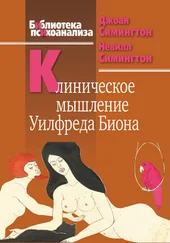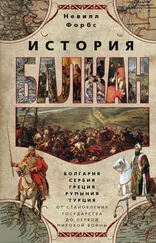Я считаю, что Уилфред Бион достиг этого наивысшего уровня абстракции.
Еще один принцип, который я усвоил в результате предыдущего обучения, состоял в том, чтобы читать лишь то, что имеет смысл лично для меня, и оставлять в стороне остальное вне зависимости от того, насколько высоко его оценивает множество других людей. Я строго придерживался этого правила во время своего академического обучения в Институте психоанализа. Если я извлекал много полезного для себя из чтения определенной книги, то продолжал читать ее, несмотря на то, что по графику следовало переходить к постижению другой литературы.
Всегда подчеркивается, что самая значимая часть психоаналитического образования состоит в опыте прохождения собственного психоанализа. По этой причине я начинаю данную книгу с работы, написанной и представленной мной в Британском психоаналитическом обществе в 1985 году через четыре года после смерти Джона Клаубера и за год до моего отъезда из Англии в Австралию.
Итак, книга открывается этой статьей, но ко времени ее написания направление моего теоретического развития уже во многом определилось. В 1977 году мне предложили прочитать курс из тридцати лекций для специалистов по психическому здоровью Тэвистокской клиники. Я читал эти лекции каждый год вплоть до конца 1984 года. Постепенно я вносил в них значительные изменения. После этого меня попросили собрать их вместе, и в таком виде они были опубликованы в 1986 году в книге «Аналитический опыт». В этой книге представлена моя первая теоретическая позиция. Там излагались теории Фрейда, его ранних последователей, а затем Фейрберна, Мелани Кляйн, Биона, Винникотта и Балинта. В ней выражалось мое личное мнение, а значит, мои собственные представления об этих выдающихся клиницистах, однако я все еще трепетал перед авторитетом первооткрывателей. Несмотря на то, что я критически относился к некоторым их воззрениям, я все еще не открыл свою собственную теоретическую концепцию. Я еще разрывался между двумя несовместимыми теориями. Я пришел к мнению, что этот разрыв существует повсеместно в психоаналитическом мире, надеюсь, что данная книга ясно это показывает.
Я оставил эти работы в первоначальном виде за исключением того, что исключил некоторые повторения и кое-что добавил для разъяснения. Я также присоединил дополнительные комментарии к примечаниям в конце глав там, где мои взгляды ушли вперед или отклонились от тех, которые я выражал ранее.
Часть I
Джон Клаубер: психоаналитик личности
Глава первая
Джон Клаубер, независимый клиницист
Хоть сила подавляет тело, она также приводит к озлоблению ума. Тот, кто использует ее даже во имя защиты правого дела, в час победы может закрыть свое сердце для жалости, чем обречет себя или своих детей на ответственность за ужасную кару, которую рано или поздно боги насылают на гордецов.
(Bryant, 1969, p. 68)
Джон Клаубер умер 11 августа 1981 года во время отпуска, который он проводил во Франции вместе с женой. На мой взгляд, он внес существенный вклад в психоанализ, который, как мне представляется, недооценен, и существует риск, что он останется незамеченным. Отчасти он сам в ответе за это, так как был скромным человеком и не считал себя открывателем нового, как, например, Балинт или Винникотт. Тем не менее он внес вклад в область психоанализа, наиболее ценную для любого клинициста, – в клиническую практику. Он был глубоким мыслителем, и его технические новшества были подкреплены теорией (подробней об этом см. раздел «Мысли спустя тридцать лет»).
Джон Клаубер был моим аналитиком. Я обратился к нему, находясь в состоянии очевидной болезни, пребывая во внутреннем и внешнем смятении, и спустя семь с лишним лет вышел из психоанализа другим человеком. Я знаю, что сам приложил немало усилий для достижения этого, и тем не менее уверен, что его вклад в аналитический процесс был неоценим. Все эти годы я пытался в свободное время вычленить те составляющие процесса, которые оказались решающими в достижении успешного терапевтического результата. Я хотел бы начать с его клинической практики, прежде чем переходить к рассмотрению теории и обнаружению тесной взаимосвязи между ними.
Перечисление общеизвестных или традиционных аспектов клинической практики Клаубера может показаться излишним, однако в последние годы я пришел к выводу, что иногда то, что больше всего обсуждается, никоим образом не совпадает с тем, что происходит в реальности. Так, с самого начала анализа и до его окончания он занимался интерпретацией переноса. Он крайне редко говорил о моем отношении к нему, однако он искал скрытые глубинные иллюзии, которые я питал на его счет, а на ранних стадиях анализа он облекал в словесную форму мои чувства по отношению к нему. Мне кажется очень важным с точки зрения техники то, что он ни словом, ни интонацией не отрицал мои предположения о нем. Он просто интерпретировал мои фантазии переноса. При этом он не давал мне никакого намека на то, что мои предположения неправильны. Долгое время я считал, что все психоаналитики поступают так, что такова интерпретация переноса, но в итоге пришел к пониманию, что обычно аналитики вкладывают в это другой смысл. Я слышал много докладов о поведении пациента и его отношении к аналитику или (в интерпретации Клаубера) о том, как аналитик указывает пациенту на его ошибку, на его искаженное понимание ситуации. Приведу очень простой пример, чтобы показать, что я имею в виду. Один из моих коллег в докладе о своих клинических наблюдениях сообщил, что его пациент сказал, что считает аналитика жестким фрейдистом. Аналитик опроверг это критическое высказывание и привлек внимание пациента к тому, насколько он (аналитик) свободен и гибок в своем подходе. На его месте Клаубер обратил бы внимание на чувства пациента и предложил бы интерпретацию, которая позволила бы пациенту свободно говорить о том, что он считает аналитика жестким фрейдистом. Он не стал бы указывать пациенту на его неправильное восприятие ситуации.
Читать дальше
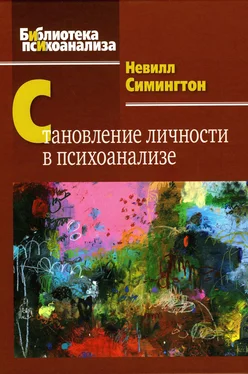
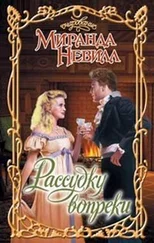
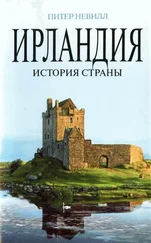


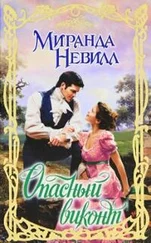

![Невилл Форбс - История Балкан [Болгария, Сербия, Греция, Румыния, Турция от становления государства до Первой мировой войны] [litres]](/books/390301/nevill-forbs-istoriya-balkan-bolgariya-serbiya-gre-thumb.webp)