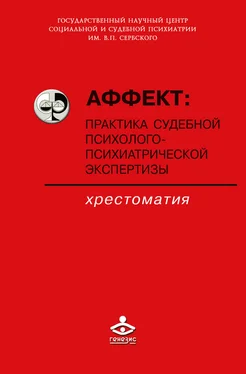Таким образом, эксперты-психологи Центра пришли к заключению, что Ш. в момент совершения инкриминируемого ей деяния не находилась в состоянии аффекта. Об этом свидетельствовали отсутствие типичной для аффекта трехфазной динамики возникновения и течения эмоциональных реакций, отсутствие значимых признаков аффективного взрыва (частичное сужение сознания, выраженные нарушения произвольной регуляции своих действий), постаффективной астении.
Проанализируем причины разногласий в экспертных выводах последней КСППЭ (отрицающей наличие состояния аффекта у обвиняемой) и трех предыдущих (которые считали, что подэкспертная находилась в состоянии аффекта).
На наш взгляд, заключения предыдущих судебных экспертиз основываются на анализе только феноменологии динамики эмоциональной реакции обвиняемой, они глубоко не исследовали, во-первых, индивидуально-психологические особенности подэкспертной, во-вторых, психологические механизмы возникновения и динамики эмоциональной реакции.
Кроме того, очевиден недостаточный учет имевшихся в распоряжении экспертов материалов уголовного дела и преимущественное использование при формулировке экспертного вывода данных, почерпнутых из личной беседы экспертов с обвиняемой.
Если проигнорировать эти значимые моменты, то в приведенных выше заключениях выводы и их обоснования выглядят формально правильными и убедительными, так как в целом соответствуют феноменологическим критериям определения аффекта. Поэтому остановимся на упущенных психологами важных деталях, которые кардинально меняют суть экспертного анализа.
1. Эксперты отмечают, что подэкспертная находилась в длительной психотравмирующей ситуации. Однако роль каждого участника, в особенности самой подэкспертной, в сложившейся конфликтной ситуации экспертами установлена не была. Свидетельские показания делятся на две группы. Свидетели со стороны подэкспертной причиной всех конфликтов считают потерпевшего, а свидетели со стороны потерпевшего, более многочисленная группа, утверждают, что инициатором скандалов всегда была сама подэкспертная. Кроме того, практически все свидетели заявляют, что конфликты в семье Ш. возникали «на пустом месте». При проведении всех экспертиз эксперты-психиатры пришли к заключению, что подэкспертная обнаруживает акцентуацию характера (среди личностных особенностей у нее наиболее ярко выделяются две: демонстративность и стеничность). Это свидетельствует о том, что у подэкспертной существовал расширенный круг аффектогенных стимулов, облегчающих возникновение выраженных эмоциональных вспышек, и позволяет сделать вывод, что частые конфликты, возникающие между супругами, с учетом психологических особенностей Ш. не давали ей возможности накопить выраженное эмоциональное напряжение.
2. Эксперты односторонне охарактеризовали личность обвиняемой. Так, отмечая у Ш. эмоциональную лабильность (нервно-психическую неустойчивость), психологи акцентировали внимание только на легкости возникновения тревожно-депрессивных состояний, игнорируя целый ряд показаний, в которых говорится, что подэкспертная раздражительна и вспыльчива. Однако именно эти ее личностные особенности препятствовали накоплению эмоционального напряжения.
3. Не раскрываются в предыдущих экспертизах и типичные способы реагирования Ш. на стресс в трудных жизненных ситуациях. Существует целый ряд свидетельских показаний, в которых отмечается, что во время конфликтов, зачастую спровоцированных самой подэкспертной, она неоднократно проявляла агрессию в отношении мужа (даже кидала в него ножницы), была жестока со своим ребенком, а также не один раз при ссорах с мужем демонстративно угрожала убить себя, свою дочь и самого потерпевшего. Очевидно, что вербальные и физические агрессивные реакции являются привычным способом личностного реагирования Ш. в конфликтных ситуациях.
4. Необходимо особо остановиться на качественной стороне динамики развития эмоциональной реакции подэкспертной в момент правонарушения. Ведущим переживанием в начале конфликтной ситуации, по показаниям самой подэкспертной, был не страх, а обида на мужа. Рост эмоционального напряжения у нее произошел именно тогда, когда она находилась одна в машине и не испытывала на себе психотравмирующего влияния внешних стимулов. Данный вывод основывается на том, что, во-первых, к моменту правонарушения подэкспертная не обнаруживала сколько-нибудь значимо выраженного эмоционального напряжения, а во-вторых, скорость и интенсивность ее эмоциональной реакции не соответствовали силе внешних воздействий со стороны потерпевшего. Кроме того, следует отметить, что источниками конфликта были и потерпевший, и сама Ш. Подэкспертная не только не стремилась сгладить остроту конфликта, но, напротив, сама активно участвовала в его развитии. Рост эмоционального напряжения у Ш. в сложившейся ситуации, таким образом, был во многом обусловлен поведением самой подэкспертной и происходил по механизму самовзвинчивания.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу