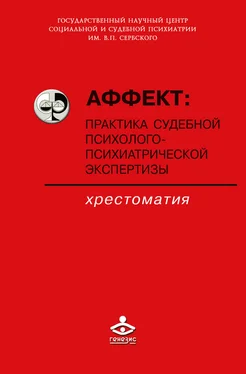Психологи-эксперты пришли к выводу, что Ш. находилась длительное время в межличностной конфликтной ситуации, которая блокировала базовые потребности подэкспертной в защите и уважении и оказывала на нее мощное стрессовое воздействие. Вместе с тем в силу своих личностных особенностей подэкспертная не могла самостоятельно справиться с этой ситуацией, вследствие чего испытывала острое состояние фрустрации, что, в свою очередь, усугубляло стрессовые переживания. Этот замкнутый круг на протяжении длительного времени в условиях непрекращающегося конфликта приводил к постоянному росту эмоционального напряжения. Используемые подэкспертной копинг-стратегии для снижения интенсивности переживаний оказались неэффективными. Поэтому к моменту правонарушения уровень эмоционального напряжения у подэкспертной оказался очень высоким, что значительно снизило порог возникновения реакции возбуждения. В результате поведение потерпевшего, которое не носило выраженного агрессивного характера, внезапно для подэкспертной вызвало у нее аффективную вспышку. На пике эмоционального возбуждения у нее отмечались выраженные нарушения произвольной деятельности, которые проявлялись в частичном сужении сознания, фрагментарности восприятия, резком снижении прогностических функций, контроля над поведением и эмоциями, что детерминировало выбор агрессивного способа поведения как субъективно последнего и единственно возможного из создавшейся конфликтной ситуации. Также у подэкспертной отмечались контрастная смена чувств после осознания содеянного и астенические проявления. На основании изложенного эксперты заключили, что Ш. находилась в состоянии аффекта.
В последующем были проведены амбулаторная и стационарная КСППЭ, которые пришли к аналогичным выводам и фактически повторили аргументацию, содержащуюся в заключении судебно-психологической экспертизы.
Суд не согласился со всеми тремя заключениями экспертов-психологов и назначил повторную стационарную КСППЭ, которая была проведена в ГНЦ ССП им. В.П. Сербского.
Анализ материалов уголовного дела и данных этого клинико-психологического исследования показал, что на протяжении длительного времени, около трех лет, в семье Ш. существовала конфликтная ситуация, однако к кумуляции эмоционального напряжения это не привело. Накоплению эмоционального напряжения препятствовали личностные особенности подэкспертной: повышенная склонность к вытеснению, выраженная стеничность и импульсивность в поведении, неспособность к рефлексии прошлого опыта, а также регулярная разрядка возникавшего напряжения в виде скандалов в семье. Непосредственно перед правонарушением у Ш. сколько-нибудь значимо выраженного эмоционального напряжения не отмечалось, о чем свидетельствуют показания сестры подэкспертной, ее матери и подруги: за 1–2 недели до правонарушения Ш. вела себя как обычно, «признаков депрессии, отчаяния, подавленности, болезненного реагирования на происходящее, психологической напряженности, раздражительности, странностей в поведении и нежелания жить, а также переживаний относительно безысходности (из сложившейся ситуации)» эти свидетели у подэкспертной не наблюдали. Отсутствие эмоционального напряжения подтверждают и собственные показания Ш.: «за 1–2 недели до правонарушения депрессии не было, было, наоборот, хорошее настроение».
В день правонарушения, в период, непосредственно предшествующий правонарушению (когда Ш. находилась в машине), ведущими ее переживаниями были обида на мужа и жалость к себе, которые на протяжении длительного времени (около 3–4 часов) только усиливались по механизму самовзвинчивания, что исключает субъективную внезапность аффективного взрыва. Из психологической беседы и материалов уголовного дела выяснилось, что поведение потерпевшего в ситуации, непосредственно предшествовавшей инкриминируемому Ш. деянию, не воспринималось ею как необычное. Вместе с тем эмоциональная реакция Ш. в момент правонарушения не сопровождались частичным сужением сознания: согласно полным и четким первым трем ее показаниям, она помнит реплики мужа, свои телесные ощущения (почувствовала, как нож легко вошел в его тело), свои поведенческие реакции (как взяла нож, как замахнулась), помнит четкую локализацию раны. Не выявляются и выраженные нарушения произвольной регуляции деятельности, о чем свидетельствуют показания очевидцев: был сохранный речевой контакт с потерпевшим и с очевидцами событий; сразу после удара Ш. сказала, что сделала это специально; на вопрос одного из свидетелей ответила, что «ударила ножом». Последняя стадия эмоциональной реакции также не соответствует динамике протекания аффекта, так как характеризуется не психофизической астенией, а целым рядом целенаправленных действий на фоне эмоционального возбуждения, которое сохранялось длительный период после деликта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу