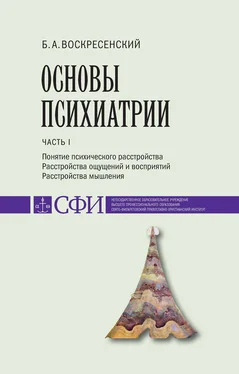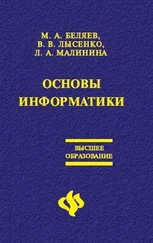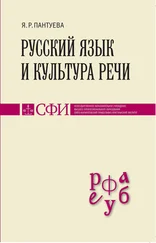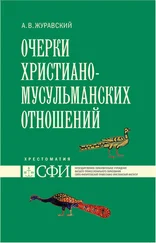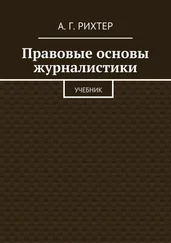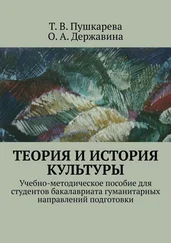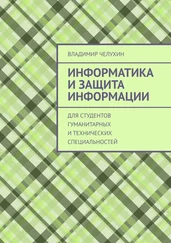Размышления о духе – душе – теле в контексте клинической психиатрии встречаем у зарубежных психиатров-классиков (К. Ясперс, К. Шнайдер), у их современных коллег, у дореволюционных отечественных авторов, а в последние годы – и у российских исследователей (Д. А. Авдеев, С. А. Белорусов, Ю. И. Полищук и др.). Исходные мировоззренчески-методологические позиции в этих специальных работах – самые разные. Но и современная психиатрия в целом, определяя человека как существо биопсихосоциальное, т. е. тоже трихотомически, интерпретирует этот тезис по-разному. То как постмодернистскую рядоположенность, равноценность составляющих – без акцента на примате духа (или – для авторов, имеющих противоположную точку зрения, – первенстве тела), то позитивистски-прагматически (любые предпочтения формируются практикой, понимаемой утилитарно, даже меркантильно), то морализующе-декларативно (все болезни – следствие личного греха).
Повторим, дух – это содержание психической деятельности, ее ценностный аспект, это то, что человек ставит выше себя, ради чего он живет. Говоря несколько иначе, обобщеннее и в то же время точнее, дух – это отношение. Одухотворяться или низвергаться может все что угодно. Для человека верующего любое отношение, любое взаимодействие направляется Богом. Для другого – это то, что называется общечеловеческими ценностями. Творческая, обыденная профессиональная деятельность, семья, дом, удовлетворение своих личных, нравственно одобряемых или, наоборот, корыстных, эгоистических, грубо чувственных, антисоциальных стремлений – все это может стать ценностью, целью и смыслом жизни. Духовность – не синоним ангелоподобности, не атрибут совершенства. Она может быть, как писал о. Василий Зеньковский, светлой и темной [16].
По ходу жизни человека что-то (наверное, что угодно) может становиться духовным, а может обесцениваться, низвергаться: «Поступок – это шаг по вертикали», – сказано в одном из стихотворений поэта Ольги Седаковой. Художник B. В. Кандинский визуально представлял духовную жизнь как треугольник, острием направленный вверх. Вершина постоянно оплывает, сползает, но одновременно и наполняется содержанием, прежде располагавшимся в нижних слоях.
Этот образ представляется чрезвычайно выразительным. Прежние ценности становятся расхожей повседневностью, банальностью, превращаются в ничто. Из романа «Собор Парижской Богоматери» делают мюзикл, Гитлер оказывается опереточным героем, Ленин – персонажем скетчей. Революции становятся бархатными, цветными, т. е. ненасильственными, безоружными. Такому преобразованию могут подвергаться и действующие лица Священной истории («Иисус Христос – суперзвезда») [17].
Итак, в сфере духа возможны как созидательные, так и разрушительные (для самого человека) и разрушающие (по отношению к окружающим) процессы, но они не связаны с медициной – врачеванием – диагностикой, лечением – напрямую: «Дух, как таковой, не может заболеть…» [18]. «Духовное» – поле деятельности священнослужителей, творцов-художников, политиков, правоведов, людей других общественно-гуманитарных служений.
На рис. 7 в изобразительной форме представлены свободный дух, устремленный вовне, вверх (уместно вспомнить мандельштамовское «Божье имя, как большая птица, / Вылетело из моей груди, / Впереди густой туман клубится, / И пустая клетка позади»), и душа, в данном случае – больная, о чем свидетельствуют искаженные страданием лица (констатируем, без комментариев, что их тоже три). Для композиционной полноты (если иметь в виду трихотомию в ее завершенности) представляется желательным и даже необходимым образ тела.
Как субстратом, ареной телесных болезней являются внутренние органы, так психические расстройства разворачиваются в сфере душевных процессов. Но если тело представляется самоочевидным [19], то с душой дело обстоит сложнее. Она неосязаема, нематериальна. Признать ее независимое или хотя бы равноправное с телесными структурами существование – позиция для очень многих людей совершенно неприемлемая. Нередко психику соглашаются принять только как эпифеномен – как структуру вторичную, как надстройку над изначальной, основообразующей материальной (здесь – телесной) субстанцией, всестороннее, исчерпывающее познание которой сделает психику, «чисто психические» процессы излишними, развеет их как призрак, окончательно узаконив лишь «реальные», «объективные» физико-химические, электрофизиологические и другие подобные им реалии [20].
Читать дальше