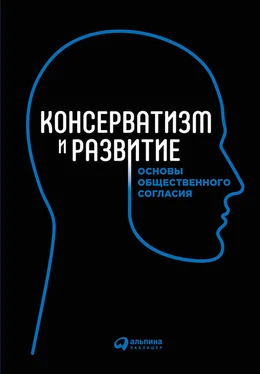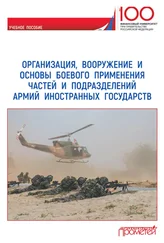Обозначим основные мотивы столь неоднозначного опыта использования идеологии консерватизма правящей партией. Первый из них – утилитарный: консервативный «флаг» не представляется выигрышным в избирательной кампании, сохраняющийся с советских времен стереотип представляет консерватизм реакционной и чуждой России ценностью. Сдвиги в этой ситуации, по данным социологов, начались лишь в последние годы [43] Консервативные настроения в российском обществе усиливаются. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2552 от 04.04.2014. URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114768 [дата обращения: 17.09.2014].
.
Второй: на Западе консервативная идентичность партий подтверждается не столько акцентированием ценностей и лозунгами, сколько привычностью для избирателя, долгой традицией представления консервативных интересов и настроений (даже если она прерывалась, как в Центральной Европе); «новые» же консерваторы выступают под лозунгами восстановления или возврата к традиционным ценностям, что также понятно массовому избирателю. В России такая традиция политического консерватизма по очевидным причинам отсутствует: в этом смысле консервативное начало можно найти только у КПРФ – ее подлинной идеологией выступает советское наследие во всех его проявлениях, включая сталинщину.
Более сложным представляется третий мотив. В деятельности властных структур присутствуют существенные элементы консервативной политической программы, но эта программа (включающая и законопроекты, принимаемые голосами правящей партии) сравнима скорее с западным «системным» консерватизмом, во всяком случае, в том, что касается экономической и социальной политики. Она основана на рыночных началах, исходит из политических и социальных реалий. Вполне совместимы с таким подходом и программные документы «Единой России». В то же время в консервативном общественном дискурсе преобладают другие моменты, а «Единую Россию» именно по этой причине эксперты не считают носительницей консервативной идеологии.
Основные принципы российских консерваторов, сформулированные в «Манифесте просвещенного консерватизма» и Программных тезисах РСКС, весьма близки медианной политической позиции российского консерватизма, выявленной нашим экспертным исследованием.
Сильные стороны этих программных документов созвучны описанной выше зоне консенсуса всех российских консерваторов. Это стремление подвести под политическую программу развития ценностную основу и требование органичности любых преобразований, их укорененности в российской почве. С этим связывается и требование децентрализации власти, передачи полномочий и ответственности за принятие и выполнение решений на провинциальный и местный уровни. В этом видится единственный способ обеспечить такую «связь с почвой», участие граждан в политике. (Правда, это не может не противоречить пафосу сильной центральной власти.) Также подчеркивается необходимость развития гражданского общества и его деятельного участия в обсуждении и выполнении решений.
Вместе с тем многие программные положения этих документов весьма проблемны. Государственное устройство в обоих случаях представляется скорее корпоративистским («единая власть», или «симфония» государства и общества, труда и капитала). По наблюдению независимого эксперта, Михалков у Муссолини терминологию позаимствовал: Все для государства! Ничего вне государства! и т. д. Слово «демократия» в каждом из них упомянуто по одному разу – и то в негативном контексте.
Представление о государственности в «Манифесте» носят откровенно имперский характер, в «Тезисах» утверждается миссия России по распространению своих ценностей по всему миру; в обоих документах делается упор на ослаблении зависимости от мировой экономики. Однако цельной и рациональной модели отношений с внешним миром (за естественным акцентом на суверенности России) них не представлено.
К рынку оба документа относятся с немалым скепсисом и подозрением, осуждают «потребительство», засилье финансового капитала и наживу, не верят в права собственности: «Манифест» предлагает заменять ее арендой в интересах «экономической выгоды» государства, «Тезисы» не видят необходимости ее правовой защиты. Дирижизм и значительная роль государства в экономике всячески подчеркиваются.
Проблемы социальной политики в документах затрагиваются лишь фрагментарно, хотя принципы социальной экономики и социальной защиты в них провозглашены (в «Манифесте» – гарантийное государство ). Темы образования, здравоохранения, пенсионной системы, ключевые для «государства всеобщего благоденствия», в документах отсутствуют.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу