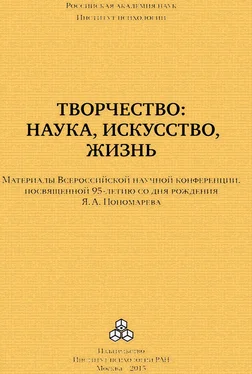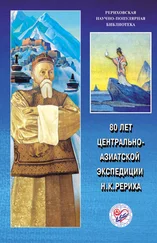Для сферы усвоения второго языка в прикладном отношении особо актуальны вопросы, связанные с возможным улучшением качества обучения. В этой связи закономерен вопрос об оптимальности сочетания условий обучения (имплицитное vs эксплицитное) и индивидуально-психологических характеристик, в число которых входят и когнитивные способности. В этом отношении эксплицитный контекст обучения изучен существенно глубже, чем имплицитный. Если предположение о важной роли интеллекта в эксплицитном научении выглядит закономерным и надежно эмпирически обоснованным, в отношении имплицитного научения вопрос требует пояснений. Какие основания существуют для того, чтобы поставить в соответствие имплицитному научению второму языку – вариативность в способностях логико-аналитического плана?
В центр внимания здесь попадают следующие возможные когнитивные детерминанты: рабочая память и – особо – фонологическая рабочая память (Grey et al., 2015; Robinson, 2001; Tagarelly et al., 2015; Williams, 2007), внимание (Robinson, 2003; Robinson et al., 2012), кратковременная память (Robinson, 2003). В отношении каждой из позиций, безусловно, справедливо заключение об их положительной связи с эксплицитным научением второму языку. При этом перенос тезиса А. Ребера о малой вариативности способности к имплицитному научению и отсутствии ее связи с интеллектом (Reber et al., 1991) в область усвоения второго языка представляется неоправданным упрощением. Напомним, что в экспериментах А. Ребера использовались искусственные грамматики (последовательности букв, лишенные семантики и звучания), испытуемые выполняли целевую задачу на их запоминание, а его теоретизирование заключалось в признании за имплицитным научением эволюционно более раннего статуса по сравнению с интеллектуальными процессами.
В современной психолингвистике большинство авторов предпочитают говорить об условиях «случайного, побочного научения второму языку» (incidental L2 learning), а имплицитность получаемого знания доказывать применением специальных мер осознанности. Так, в условиях случайного научения испытуемым не сообщается истинная цель обучения и не сообщается о том, что последует проверка его результата. При этом, в отличие от парадигмы искусственных грамматик, предъявляемый лингвистический материал (даже искусственный или полуискусственный) близок натуральному языку, а поставленная перед испытуемым целевая задача все же близка тем, с которыми можно столкнуться при изучении иностранного языка. Например, целевая задача может заключаться в запоминании искусственных слов, а побочная – в улавливании правил их морфологических изменений. Оба фактора – естественность материала и воспринимаемых целей – существенны для спонтанной активации и возможной вариативности в проявлении аналитических стратегий, свойственных естественному оперированию языком. При этом измерение аналитической установки в ходе научения – помимо измерения осознанности итогового знания – представляет собой существенную методическую трудность.
Второй момент, важный для размышлений о когнитивных детерминантах имплицитного научения второму языку, связан с представлением об осознанности лингвистических закономерностей как о градуированном, а не «бинарном» явлении. Так, например, гипотеза Шмидта состоит в выделении уровня обнаружения закономерности и уровня понимания составляющих ее правил (Schmidt, 1990). Довольно часто фиксируемое обнаружение (простое замечание) закономерности испытуемым без его понимания также свидетельствует о том, что существует вариативность в осознанности, и, соответственно, возможная связь с ними индивидуально-психологических характеристик.
В-третьих, в психолингвистических экспериментах обнаруживаются выраженные отсроченные эффекты научения, связанные с консолидацией следов памяти и длительностью обучающего этапа. Например, эффекты случайного научения через неделю и через полгода после научения (при условии, что в это время отсутствовало обращение к материалу заучивания), обнаруживают разительные различия в связи с интеллектуальными способностями и рабочей памятью (Robinson, 2003).
В-четвертых, лингвистическое имплицитное научение – в отличие от имплицитного научения в традиционных парадигмах – оказывается остро чувствительным к релевантности мер измерения когнитивных способностей специфике феномена научения. Слишком общий «прицел» – традиционные батареи тестов интеллекта или лингвистических способностей vs эффект научения – оказывается непродуктивным, вуалирующим узко-специфичные операции и дающим поспешные обобщения. Например, эффект имплицитного научения, состоящий в речевом продуцировании, обнаруживает большие связи с рабочей памятью, в сравнении с простым узнаванием (Robinson et al., 2012). Имплицитное научение в аудиальном формате положительно коррелирует с фонологической рабочей памятью, но не всегда обнаруживает связи с иными ее формами (Robinson et al., 2012; Tagarelli et al., 2011).
Читать дальше