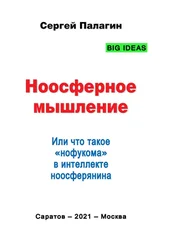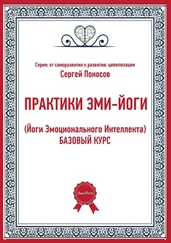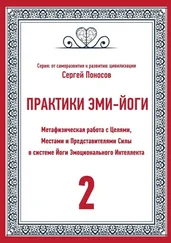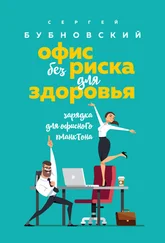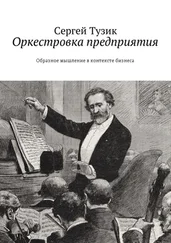Изложенное в этом разделе в некоторой степени освещено нами в предшествующей этому изданию статье (Куликов, Гаврилов, 2011). Но мы, чтобы двинуться дальше, вынуждены повториться в общих чертах. Из тех соображений, что не все наши читатели видели эти публикации.
Всё имеет свойство быть и не быть. Бытие (наличие) звука и есть, собственно, сам звук. Его отсутствие (небытие) – молчание. Звук вообще и молчание есть первые знаки любого языка, служащие для выражения (обозначения) чего-то. Диал здесь отнюдь не исключение, и правило произвольности обозначений в Диале, здесь мы нарочно повторимся, гласит: звуком или молчанием в Диале можно обозначить (выразить) что угодно, и нам безразлично, что.
Так ли уж это необычно, встречается ли подобное в естественных языках? Тот, кто вспомнит, как не раз выражал своё мнение хмыканьем столь же многозначительным, сколь и неопределённым, или не менее многозначительным молчанием, нас сразу поймёт. А есть ли тот, кто этого не делал?
Нетрудно понять, какими будут следующие знаки (операторы симметрии, описывающие её переходы-трансформации) Диала. Это конечно же уже упомянутые (см. выше отрывок из романа Валентина Куликова «Узник бессмертия»), рождение / и исчезновение \, отображаемые появлением и исчезновением звука, соответственно.
Можно ли, в соответствии с принципом произвольности обозначений, поменять их ролями? Ведь рождение чего-то одного всегда есть исчезновение другого, так? Безусловно, но только если Вы уже не закрепили (не подразумеваете) некий смысл за произносимым звуком. Если, скажем, непроизвольным хмыканьем «Э» Вы выражаете согласие, то и началом (рождением) этого звука эЭ будет рождение именно согласия Э, а не чего-то иного. В то же время это ещё и исчезновение чего-то, но вполне определённого (а именно, несогласия «э» или и вовсе молчания).
Переход рождения в исчезновение – сама жизнь звука (его бытие, наличие) /\. И она, как мы понимаем, временна. Этот переход, собственно, и есть абстрактное определение времени вообще – но лишь до тех пор, пока звуком не обозначено нечто конкретное (Э). В этом последнем случае абстрактное время тоже конкретизируется, отображая временность существования этого конкретного Э (эЭэ), скажем, нашего согласия, то есть бытие Э во времени, его жизнь.
Обратный переход, трансформация исчезновения в появление \/ (ЭэЭ), как нетрудно догадаться, есть антивремя, или, иначе, память, сохранение, пространство (всё это просто разные слова для разных проявлений одной и той же универсалии). И вновь здесь возможен иной подход к интерпретации, если не сделано предварительных допущений и обозначений. Кроме того, \/ это жизнь (время) паузы (молчания), где рождением паузы надо считать исчезновение звука \, а её концом как раз рождение звука /.
Какая шутка – наша жизнь земная!
Так раньше думал я. Теперь я это знаю.
(Эпитафия – надпись на соборе Эльджин. Маршак, 1973. С. 633)
«Ляля пяти лет (очутилась на кладбище и говорит. – Авт .): “Вот ведь большие дяди и тёти, а чем занимаются – хоронением! Я, конечно, не боюсь, нет, но ведь жалко – хороняют и хороняют, ведь людей хороняют. Пойдём и заявим в милицию – ведь жалко людей-то!”» – приводит один среди многих прочих примеров парадоксальных детских суждений тот же Корней Чуковский (Чуковский, 1970. С. 166).
Смерть, как необратимый процесс, ребёнку неведом. Похожие воззрения характерны для традиционной, то есть языческой, культуры с её идеей «реинкарнации» и повторяемости событий, возвращения личности на новом жизненном цикле в мир живых. Так возвращается солнце после ночи, так каждый раз настаёт весна, после зимы…
Едва различив нечто, любое понятие, любую языковую форму, любой знак, вещь, пытайтесь «отзеркалить» их, осознать, что произойдёт при инверсии, обращении этого «нечто» в антипод, или же «антипят».
Мы – антиподы, мы здесь живём!
У нас тут анти-анти-антиординаты.
Стоим на пятках твёрдо мы и на своём,
Кто не на пятках, те – антипяты!
(В. Высоцкий, «Марш антиподов»)
Честертон так выразился о Кэрролле: «Он не только учил детей стоять на голове. Он учил учёных стоять на голове».
Алиса Рейкс, дальняя родственница Кэрролла, вспоминала:
«…Комната, в которой мы очутились, была заставлена мебелью; в углу стояло высокое зеркало.
– Сначала скажи мне, – проговорил он, подавая мне апельсин, – в какой руке ты его держишь.
– В правой, – ответила я.
– А теперь, – сказал он, – подойди к зеркалу и скажи мне, в какой руке держит апельсин девочка в зеркале.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
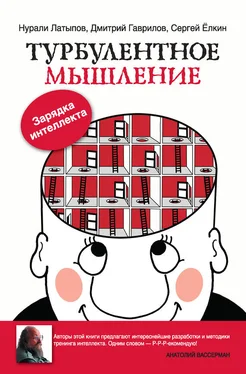
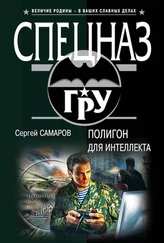


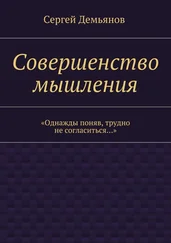
![Виктор Шейнов - Развиваем мышление, сообразительность, интеллект [Книга-тренажер]](/books/404204/viktor-shejnov-razvivaem-myshlenie-soobrazitelnost-intellekt-kniga-trenazher-thumb.webp)