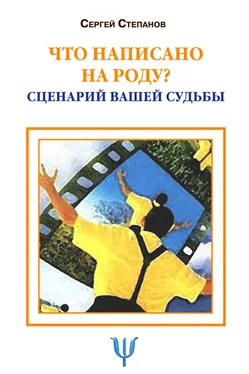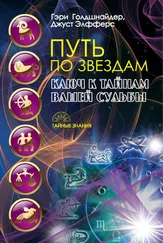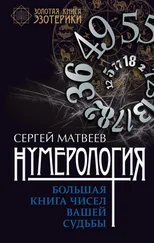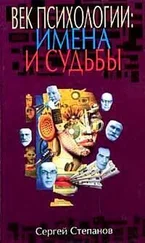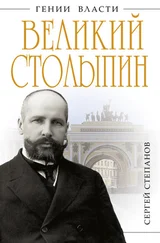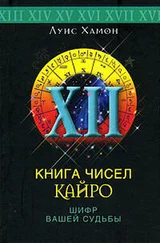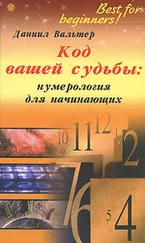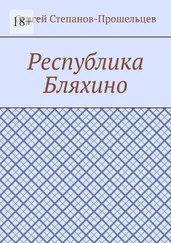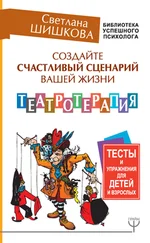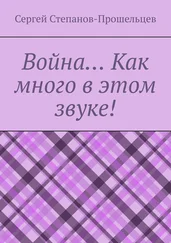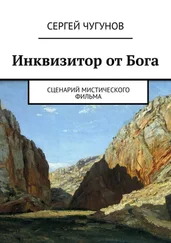Особого разговора заслуживают так называемые агрессивные игрушки, главным образом копии оружия. Отношение к ним сложилось неоднозначное, хотя мальчишки испокон века играли в военные игры. Это естественно: в игре растущий человек стремится освоить формы поведения взрослых, приобщиться к образцам мужественности. А воин – это утвержденный веками идеал мужчины.
Сегодня на волне гуманистических деклараций кое-где даже проводятся демонстративные акции по якобы антимилитаристскому воспитанию. Так, однажды группой энтузиастов было предложено мальчикам-дошкольникам и младшим школьникам сдать свои военные игрушки и получить взамен мягких плюшевых пупсов. Собранная куча “оружия” была торжественно сожжена. Но организаторы этой акции, по мнению психологов, достигли совсем не той цели, к которой стремились. В самосознании мальчишек произошел болезненный надлом: у них отняли символы формирующейся мужественности и заставили символически соскользнуть на стадию младенчества.
Как говорили древние, все есть лекарство и все есть яд – важна только мера. Пластмассовый пистолет – это всего лишь игрушка. И манипуляции с ним в разумных пределах даже полезны для формирующейся личности мальчика. Однако выход за эти пределы должен настораживать. Чрезмерное пристрастие к стрельбе – пускай и понарошку – скорее всего свидетельствует о каких-то внутренних психологических конфликтах, не находящих иной разрядки, кроме как в форме символического “пиф-паф, ты убит!” Следует обратить внимание, в кого чаще целится юный стрелок. Если в сверстников, то, вероятно, он не вполне удовлетворен тем, как складываются его отношения с ними. Если в родителей, то, значит, их воспитательные установки он приемлет с напряжением и неудовольствием. Если же вообще во все на свете, то тут мы имеем дело с общей неприспособленностью к миру, который ребенок неосознанно воспринимает как враждебный и потому стремится ответить встречной агрессией.
Таким образом, увлечение игрушечным оружием и военными играми вовсе не однозначно свидетельствует о формирующейся агрессивности, как может показаться. Скорее наоборот – к настоящему оружию чаще тянутся те взрослые, которые в детстве не наигрались в игрушечное.
Не имеет смысла ограничивать ребенка в одних играх и навязывать ему другие. Лучше присмотреться к его склонностям и интересам, которые и отражают его подлинную природу. Тогда он, когда повзрослеет и найдет в шкафу свою старую машинку или куклу, улыбнется теплой улыбкой, а не скорчит отчужденную ухмылку Кристофера Робина.
Родительское программирование. Взгляд Берна
Мать всегда говорила ей, чтобы она берегла себя и носила резиновые сапоги, дабы не промочить ноги; кроме того, она частенько восклицала в сердцах: «Чтоб ты провалилась!». Будучи послушной девочкой, она была в резиновых сапогах, когда упала с моста…
Эрик Берн
В нашей стране Эрик Берн – пожалуй, один из самых известных зарубежных психологов. Многие познакомились с его теорией более четверти века назад – в пересказе его верного последователя Томаса Харриса. Книга Харриса “Я – о’кей, ты – о’кей” была переведена в 1973 году в Новосибирске и приобрела огромную популярность в самиздате. Пятью годами позже идеи Берна в вольном пересказе советского психотерапевта Анатолия Добровича обрели еще более широкую аудиторию. Правда, в пересказах яркая фигура Берна невольно терялась, и у многих читателей его концепция ассоциировалась с именами Харриса и Добровича. В 1988 г. справедливость была восстановлена – в издательстве “Прогресс” огромным тиражом (которого все равно не хватило всем желающим) вышел бестселлер Берна “Игры, в которые играют люди”. Наверное, можно даже сказать, что именно с этой публикации начался психологический бум в нашей стране: миллионы (без преувеличения) людей вдруг поняли, что психология может быть невероятно интересной, что с ее помощью действительно можно многое понять в себе и других. Затем последовало еще несколько переводов – к настоящему времени практически все книги Берна вышли в нашей стране и достаточно широко доступны. Во многом Берн оказался удивительно прав: одна из “игр, в которые играют люди”, названная им “домашняя психиатрия”, приобрела у нас огромную популярность и практикуется чаще всего именно в форме берновского трансактного анализа.
Берн задался целью разработать такую психотерапевтическую концепцию, применение которой обеспечивало бы “полное излечение за минимальное время”. Он утверждал, что им осуществлена адаптация психоанализа с целью его более широкого и эффективного использования. Своей заслугой он также считал перевод изощренной психоаналитической терминологии на доступный житейский язык. Критикам его подхода это дало повод утверждать, что трансактный анализ (ТА) – так он назвал свой метод – по существу, является лишь поп-версией психоанализа. Ряд положений ТА действительно перекликаются с психоаналитическими постулатами, но существуют и специфические черты ТА, позволяющие рассматривать его как самостоятельное направление психологической теории и практики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу