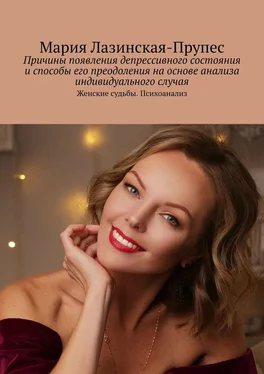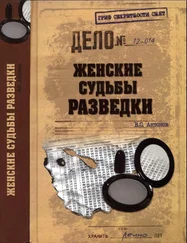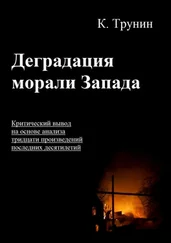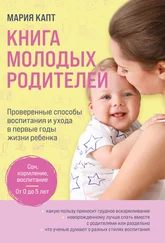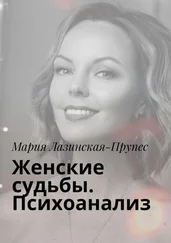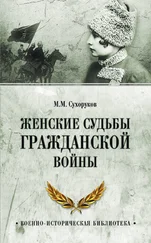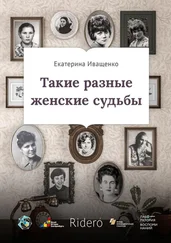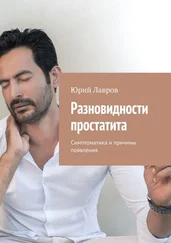С учетом результатов проведенных исследований и сопоставления точек патологической фиксации на оральной стадии развития в работах Фрейда были описаны типы характеров: «оральный оптимист» и «оральный пессимист». Таким образом, если сохраняется конституциональное значение получения удовольствия от области губ, то такие дети, взрослея, становятся любителями поцелуев или приобретают склонность к перееданию, пьянству, курению. При других вариантах, к примеру, вытесненных негативных переживаниях, связанных с оральной фазой, возможно развитие отвращения к пище, анорексия и т. д. [21, с.69].
Человек с фиксацией на оральной стадии психосексуального развития веселый и оптимистичный, он ожидает от внешнего мира «материнского» отношения к себе и постоянно любой ценой ищет одобрения. У такого человека психологическая адаптация заключается в доверчивости, пассивности, незрелости и чрезмерной зависимости [57, с.121].
Далее детально рассмотрим, что происходит с утраченным объектом с точки зрения психоаналитической теории. Вслед за регрессией, пишет Фрейд, утраченный объект интроецируется в «Эго» субъекта, расщепляя его как бы на две части: собственное «Эго» субъекта и часть «Эго», которая практически полностью идентифицируется с утраченным объектом (чаще всего с матерью). «Супер-Эго» реагируетна это тем, что усиливает «давление» на «Эго», но «Эго» на это давление начинает реагировать большей частью, как «Эго» утраченного объекта, на который проецируются все негативные и амбивалентные чувства пациента (а «отколовшаяся» часть, принадлежащая собственному «Эго» субъекта, обедняется и опустошается). И как следствие, негативные чувства, направленные на утраченный объект, концентрируются на самом себе [21, с.188].
В состоянии меланхолии (в данном случае термин «меланхолия» эквивалентен «тяжелой депрессии»), Фрейд отмечает, прежде всего, утрату интереса ко всему внешнему миру, неспособность к какой-либо деятельности в сочетании с понижением чувства собственного достоинства, выражающееся в бесконечном потоке упреков, оскорбительных выражений и высказываний по поводу собственной личности. Эта феноменология в некоторых случаях может перерасти в бредоподобное чувство вины и ожидание наказания (за свои реальные или фантазийные прегрешения, которым, по ощущениям пациента, нет прощения). «Величественным обеднением Я» называл это Фрейд, так как именно само «Я» в данном случае становится бедным и пустым [21, с.189].
Фрейд в своей работе «Печаль и меланхолия» [31] также отмечает ускользавшую ранее от внимания исследователей «утрату способности любить», а еще указывает на то, что меланхолия вовсе не обязательно апеллирует к реальным утратам, или, как пишет Фрейд, в большинстве случаев «нельзя точно установить, что именно было потеряно». Образно выражаясь, здесь идет речь не о «лишенности обладания», а об «обладании лишенностью». Ценность такого «обладания» проявляется особенно сильно на заключительных этапах терапии, так как «обладание лишенностью» – это все-таки «обладание» чем-то, в каком-то смысле – последняя возможная форма обладания, связанная с утраченным объектом, а терапевт (даже пусть и с благими намерениями) выступает в роли того, кто хочет «отобрать и это последнее» [21, с.191].
«Меланхолик начинает видеть наши общие – человеческие – недостатки намного яснее, без какой-либо культурной цензуры», – отмечает Фрейд, но практически все их относит к себе. Зигмунд Фрейд, можно сказать, изумляется, спрашивая: «Неужели нужно было заболеть, чтобы так ясно (почти психоаналитически) увидеть человеческую природу (без ее культурного обрамления)» [21, с.192].
Особым образом он подчеркивает в своей работе, что причина меланхолии всегда имеет отношение к утрате какого-то объекта (воображаемого или реального), но в самой терапии, прежде всего, проявляется утрата собственного «Я» пациента или раздавленность, расщепленность этого «Я» [21, с.192]. Происходит формирование одной из возможных гипотез: когда объект утрачен (или отношения с ним потерпели крах), но субъект не может оторвать от него свою привязанность (энергию либидо), то эта энергия направляется на «Я», которое в результате, с одной стороны, как бы расщепляется, а с другой – трансформируется и отождествляется с утраченным объектом. Таким образом, утрата объекта превращается в утрату «Я». Утрата объекта в результате как бы не происходит, либидо не смещается с этого объекта на другой объект, а «отступает в Я». Все жизненные потоки при этом словно замыкаются в отношениях между «Я» и «суррогатным» объектом или, выражая эту идею более точно – между фрагментом «Я», принадлежащим личности, и фрагментом «Я», идентифицировавшимся с объектом, и вся энергия концентрируется внутри, «изолируясь» от внешней активности и реальности в целом. Но учитывая, что этой энергии много, то она ищет выход и находит его, трансформируясь в бесконечную душевную боль.
Читать дальше