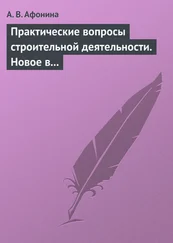Почему странное? Потому что на самом деле ничего «новоэтичного» в нынешних реалиях не наблюдается, то есть нет никаких отходов от прежних этических школ или пересмотров, скажем, принципов гуманизма. Но есть новая ситуация, при которой появляется значительное количество людей, претендующих на место в публичном пространстве, где они выражают свои суждения и мнения, выступают как консолидированная сила. Благодаря их присутствию и меняются нормы.
Сегодня трансформируется представление не столько о том, «что такое хорошо и что такое плохо», а о том, какие именно «хорошо» и «плохо» можно обсуждать; на какие феномены, которые инвариантно отрицательны и на которые мы могли закрывать глаза раньше, имеет смысл обратить внимание сейчас. В итоге мы начинаем видеть разлитое в обществе насилие и понимать, что его прошлая нормативность по объему и представленности – это неправильно, с этим нужно что-то делать. Мы расставляем новые реперные точки, и «мы» здесь – не просто элита, имеющая возможность принимать решения, а все говорящие субъекты, которых становится больше.
Понятие «новая этика» вполне подходит для разговоров на обывательском (в хорошем смысле этого слова) и наивно-повседневном языке. Естественно, использовать его в научных или научно-популярных текстах без какой-либо критики и осмысления сложно: выходит попытка «хайпануть» на явлении, которое почти сразу срабатывает как хештег, лакмусовая бумажка и красная тряпка для разъяренного быка. Так что все зависит от контекста. Если вам нужно придумать ярлык, для того чтобы быстро вбросить в пространство обсуждение новых норм, то можно использовать это выражение.
Тем не менее я прекрасно понимаю раздражение от словосочетания «новая этика», которое рождается из следующей ситуации: огромное количество публицистов и публичных интеллектуалов, зачастую не имеющих никакого отношения к социально-гуманитарным исследованиям, стали высказываться на этот счет и захватывать повестку. В этой связи голоса представителей академической сферы, которые обычно не пишут столь легким языком и не всегда получают доступ к каким-то популярным пространствам, оказываются не так слышны. Выходит, что в широком поле лидируют и доминируют понимания, очень упрощающие картину, и такое пугает. Но на самом деле это вечное противостояние академиков, которые сидят в башне из слоновой кости и надеются, что их книжки, изданные тиражом в тысячу экземпляров, будут читать все, и людей, которые пытаются иначе работать с публичной сферой.
Кроме того, «новая этика» – сочетание разных вещей: историй о харассменте в университетах, движения #MeToo [‛ Я тоже’. – Прим. ред. ] 1 1 Куркин Д. Год #MeToo: Победа или поражение? // wonderzine.com // URL: https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/238573-metoo-annual-report (дата публикации: 08.10.2018).
и, что называется, you name it [‛ что угодно’. – Прим. ред. ], поэтому люди из множества сфер заходят в обсуждение этой проблематики. Есть политологи, которые будут об этом говорить; есть представители gender studies [‛ гендерные исследования’. – Прим. ред. ], которые будут об этом говорить. Возникает образ такого «слона», которого ощупывают со всех сторон, пытаясь найти общий язык. Но мы-то понимаем, что описать общим языком «хвост», «хобот» и «уши» крайне сложно. При этом формируется чувство, что можно, и это сильно раздражает.
Последнее, что я нахожу важным. Большинство понятий «новой этики» – англицизмы, у которых либо нет перевода на русский, либо он есть, но шероховатый и скрадывающий некий смысл. Оксюморонная ситуация: мы придумываем русскоязычный ярлык, в расширение смыслов которого попадают исключительно заимствованные слова. Это странно, потому что вы или все время говорите в пространстве английского как лингва франка (и тогда нет нужды придумывать аналог), или перестаете рассказывать о гостинге, абьюзе, шейминге, харассменте и используете что-то более знакомое с точки зрения словаря и практик носителя русского языка.
Здесь есть пример. Недавно издание The Bell вместе с карьерными сервисами HeadHunter и SuperJob проводило исследование о том, что сотрудники российских компаний знают про харассмент 2 2 Стогней А., Аренина К., Коновалова А. «Эйчары боятся как огня». Исследование The Bell о харассменте в российских компаниях // thebell.io // URL: https://thebell.io/ejchary-boyatsya-kak-ognya-issledovanie-the-bell-o-harassmente-v-rossijskih-kompaniyah (дата публикации: 30.07.2020).
. Результаты были ужасающими, причем они оказались такими даже с учетом статистики прошлых лет. Казалось бы, мы говорим о харассменте и объясняем, что это такое. Кроме того, у нас есть центр «Насилию.нет», который вкладывает много сил, чтобы, в частности, рассказать об этом явлении. Однако, когда ты беседуешь с людьми, они заявляют: «В нашей компании такого нет, и вообще я никогда в жизни с этим не сталкивалась [или не сталкивался]». Почему так происходит? Потому, что они интуитивно отказываются применять к себе нормы инокультурного и иноязычного пространства, считывать, к примеру, как харассмент хамство коллеги или нежелательные комплименты? Либо они в принципе не хотят это обсуждать, потому что им кажется, что ничего не изменится? Либо они считают, что небезопасно поднимать эту тему?
Читать дальше
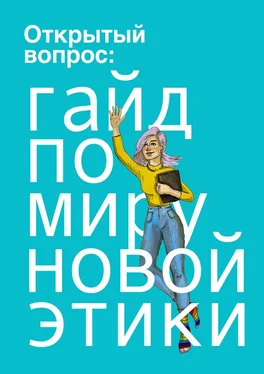
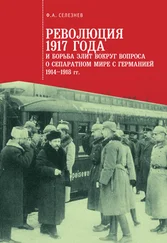
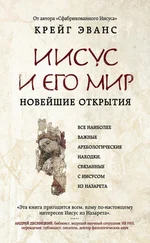

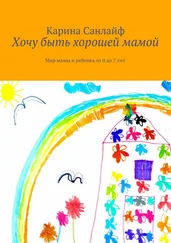
![Екатерина Иванова - Конец привычного мира [Путеводитель журнала «Нож» по новой этике, новым отношениям и новой справедливости] [litres]](/books/384829/ekaterina-ivanova-konec-privychnogo-mira-putevodit-thumb.webp)