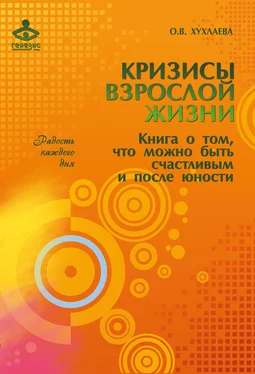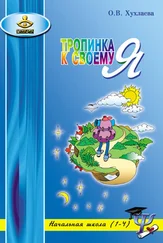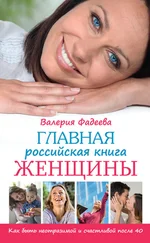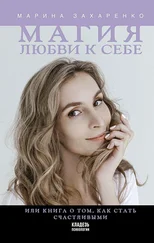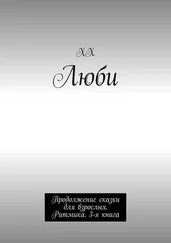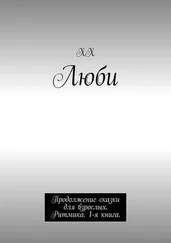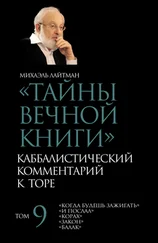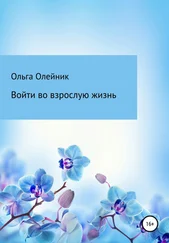Кувада – это французское слово, в буквальном переводе означает «вынашивание, высиживание». В этнографии этим словом обозначается совокупность правил и норм поведения отца, связанных с рождением ребенка.
Обряды, связанные с кувадой, могли совершаться по-разному. Можно выделить четыре основных варианта.
Первый предполагает добровольную идентификацию с женой через имитацию ее действий. Муж, к примеру, мог изображать родовые схватки, принимать поздравления или же вести себя так, как будто от его действий зависит здоровье ребенка: соблюдать диету, не пользоваться колющими предметами. Иногда при этом муж переодевался в женское платье. Так, на островах Адмиралтейства муж, «находящийся в семейной хижине, иногда сам изображает родовые муки – стонет, корчится от воображаемой боли. Своим поведением он как бы доказывает факт своего отцовства» (Этнография детства…, 1983. С. 70).
В другом варианте мужа идентифицируют с женой через причинение ему страданий помимо его воли. Причинять боль мужчине может либо сама жена, либо повитуха. Приведем примеры из жизни полесских семей. «Измученная схватками жена просит мужа передать ей валёк, но вместо того чтобы положить его под спину, как она собиралась делать вначале, она дубасит им мужа. На вопрос обескураженного супруга, не рехнулась ли она часом, женщина отвечает: “А табе больно? Мне больно, хай и табе также буде!” (Родины, дети, повитухи…, 2001. С. 110). Можно спорить по поводу разумности подобных действий, но согласимся, что в ситуациях, когда роды проходили с осложнениями, и женщина испытывала непереносимую боль, такой способ отвлечения от боли и направления сознания на роды был вполне оправдан.
Муж мог осуществлять идентификацию с женой и по-другому: через выполнение с ней тех или иных символических действий. Например, поить ее изо рта, переступать определенным образом.
И наконец, четвертый вариант кувады предполагал идентификацию мужа с ребенком. В этом случае мужчина ложился рядом с малышом, питался, как он, а в случае болезни новорожденного пил такие же лекарства.
Интересно, что в некоторых культурах обряд кувады сохранился почти до нашего времени. Например, в начале XX века обычай кувады был очень распространен у югославов. Так, один исследователь был свидетелем того, как в селах Северной Долмации во время родов рядом с женщиной ложился ее муж, считая, что он сможет своей мужской силой помочь ей. В Боснии существовал обычай, согласно которому за 2–3 дня до родов муж ложился в постель и имитировал роды – стонал, кричал, пил те же снадобья, которые дают роженице. В другом варианте муж сразу после родов жены ложился в постель, и, когда к супругам приходили соседи, отец, лежа в постели, сообщал им о рождении ребенка. О подобном случае, произошедшем в Югославии в 1956 году, поведал очевидец. Он попросил стакан воды в доме у дороги, ему принесли стакан вина и рассказали, что хозяин празднует рождение ребенка, хозяин же в это время лежал в постели, стонал и принимал поздравления от соседей, которые спрашивали, как прошли его роды.
Кувада вызывает особый интерес, потому что она являлась не изолированным обычаем, а была распространена во всех частях света. В Америке она практиковалась почти повсюду: от Гренландии до Огненной земли. Часто встречалась в Азии. Сравнительно редко – в Африке и Австралии. В Европе следы кувады отмечали в Англии, Франции, Болгарии, на территории Югославии.
Ученые предлагали различные объяснения кувады. Но наиболее распространена гипотеза, предложенная в 1861 году Бахове-ром и поддержанная Тэйлором, о том, что зарождение кувады относится к переходному периоду от материнского рода к отцовскому. Она являлась формой признания отцом ребенка своим, общественным закреплением родства.
Поскольку в основе всех этих обрядов лежала идентификация мужчины либо с женой, либо с ребенком, причем все это сопровождалось сильным эмоциональным проживанием ситуации рождения, то понятно, что отношения «мать – дитя – отец» устанавливались равновесные. И проблема включения отца в воспитание ребенка просто не возникала. Конечно, мы не можем механически переносить куваду в современную жизнь, но, наверное, стоит подумать о ее новых формах, которые имели бы аналогичное содержание.
Вернемся к обсуждению динамики родительско-детских отношений в младенчестве.
С появлением «комплекса оживления», когда ребенок начинает улыбаться взрослым и «гулить» в ответ на ласковое обращение, родители получают внешнее подтверждение того, что ребенок их любит, хочет быть с ними рядом. Еще большую гордость они начинают испытывать при появлении признаков роста и развития ребенка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу