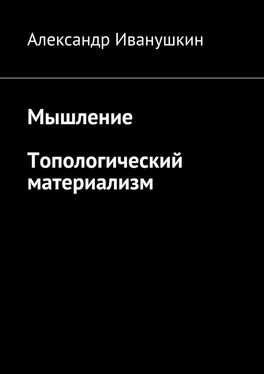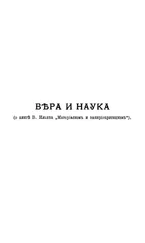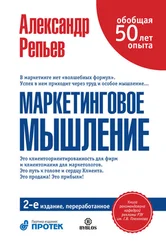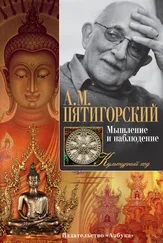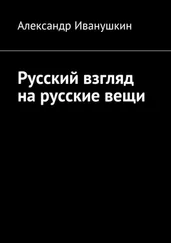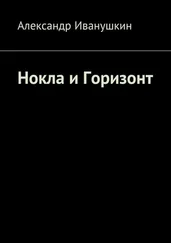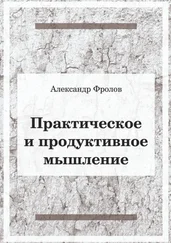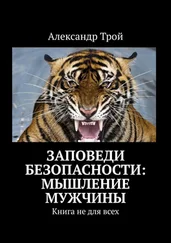Акт мышления из предыдущей части озвучен в терминах традиции (Бог, ангел дарует и т. д.) Но традиционным его делает вовсе не терминология, а, исключительно и только, готовность менять взгляд на мир, сохраняя традицию. Попытка совершать обратное (искать в традиции щели, забившись в которые можно взгляд на мир не менять), называется «профанация».
Неизбежно, честное, последовательное (рациональное) традиционное мышление порождает «топологический коллапс псевдомира». Трехмерный детерминизм из «цельной жизни» превращается в «более-менее значимую часть жизни». Человек зависает и качается поплавком на границе сред.
Многохитрое человечество научилось жить непоследовательно, с разделенным сердцем и разделенным умом. Факт наличия «физики» и «метафизики» одновременно в одной здоровой голове давно никого не смущает (принимается за норму). Можно назвать это «вязкость сердца» или «обморочная нерешительность мысли».
Свободный выход всегда свободен. Можно закрыть глаза на традицию (если сердце позволит), а заодно и на всю «не традиционную метафизику» и деградировать в «позитивиста». Почему позитивист = деградант? Потому, что мышление в позитивизме невозможно.
Возможна его (мышления) имитация биомеханизмами, более-менее удачные «притягивания за уши» наблюдаемого к «предположениям принятым за истину». Неуклонное вырождение публичной мыслительной деятельности последнего полустолетия связано исключительно с социальной (экономической и политической) победой позитивистов.
Первое, на что закрывают глаза отказавшиеся от «метафизики», это «мое до качественное я». Элемент, наличие которого является, собственно, необходимым условием существования личности – чистая «метафизика» (нет его в трехмерном псевдомире и ни какая биохимия не является его носителем).
То есть в позитивизме «я», это набор качеств (то, что есть). Эта свободная самокастрация оставляет человека один на один исключительно с «тем, что есть», лишает его шансов пялиться в «то, чего нет», то есть выключает способность мыслить (добывать то, чего еще не было).
На втором шаге, когда сердце уже «прикипело» к простоте механического восприятия, позитивист теряет фантазию (воображение) и способность сопереживать. А чего ждать, когда люди массово и свободной волей отрывают себя от тотально общего «нульмерного, до качественного я»? Только биороботизации (обезличивания).
Некоторое количество населения планеты уже прошло этот путь. Вернемся же к вязкой нерешительности ума содержащего в себе, в удобных на данный момент пропорциях, «физику» и «метафизику» одновременно. Такой ум обладает потенцией мыслить (еще свободен). Можно назвать его состояние – «затянувшийся ремонт».
Рассмотрим другую крайность. Отчаянный прыжок в ничто, как в «Источник всех источников» или полный (абсолютный), отказ видеть причины в «физике». Ум починивший себя таким образом находит в мире только Божий промысел (свободную волю Бога) и в великом (глобальном) и в малом (в быту).
Трехмерная биохимия становится просто следствием того, что она воплощает, то есть причины всего перемещаются за грань восприятия. Возня с обустройством в трехмерье становится уделом слабых духом, чем-то несущественным и даже предосудительным (для себя).
Вот Павел Обнорский, ученик Сергия Радонежского, перед основанием собственного монастыря живет три года в дупле липы, в абсолютном удалении от людей. А это, простите, Комельские леса (ныне Вологодская область). Северо-Запад Руси, три зимы без огня. Какая у него была биохимия?
А ровно такая, какую обустроил ему Создатель и Содержатель всех биохимий. Можно назвать это ответом Бога на абсолютное доверие. Совершенно свободный выбор человека (доверить себя Богу без оглядок и страховок) получил совершенно свободный ответ Абсолюта (сохранение жизни в условиях для жизни не предназначенных).
Приведенный пример можно назвать одной из вершин моей генетической и культурной памяти. Многое непонятное (и неприятное) людям с другими «вершинами в памяти» здесь, на Руси – всего лишь эхо озвученного идеала. С рациональной точки зрения, сохранение именно таких идеалов сохраняет «шанс на эхо», в том числе и шанс на мышление.
То, что называется «собственно русской культурой», есть корпус произведений, которые, в большей или меньшей степени, являются производными от этого (и подобного) «духовного максимализма». Прикосновение к такой культуре, есть осознанное (или нет) прикосновение к ее идеалам (вершинам, истокам, базовым мотиваторам). Проще (в свете вышеизложенного), является «прикосновением к Богу».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу