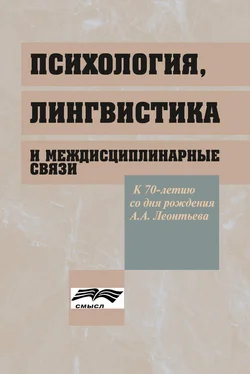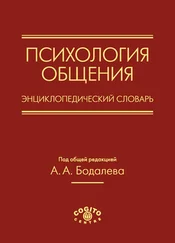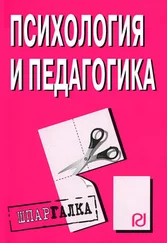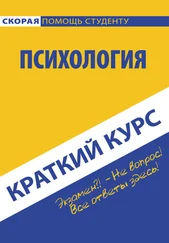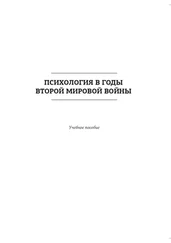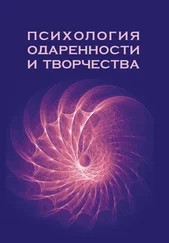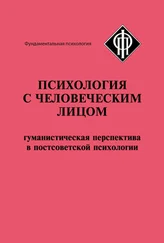Образ «языковой системы» как модели, в которой лингвист «упорядочивает» «константные элементы речевой деятельности»,представляемой в данном случае в аспекте «конкретных говорений» и непосредственно – в виде текстов, подкрепляется положением о том, что текст, с которым имеет дело лингвист, сам представляет собой модель реального речевого процесса, так что лингвист разрабатывает, так сказать, модель второй ступени абстракции ( Леонтьев , 1965, с.56). В том же направлении идет различение рядов психолингвистических и лингвистических единиц, на котором мы не будем подробно останавливаться, отметив лишь, что психолингвистическому ряду – слогу, слову, предложению – придается как объектный статус (они потенциально или актуально осознаваемы и представляют собой поэтому психологическую реальность), так и статус моделей, а относительно лингвистического ряда – фонемы, морфемы, лексемы – всемерно подчеркивается модельная функция соответствующих понятий ( там же ,с.72, 123, 191).
В сущности А.А. Леонтьев солидарен с С.Д. Кацнельсоном во мнении, что языкознание – именно языкознание, лингвистика – не интересуется психическими процессами речи, что его занимают только продукты речевых процессов, соответствующие «результативные образования». Это прокладывает четкий раздел между лингвистикой и психолингвистикой, и так тому и быть. Консервируется традиционный образ лингвиста, которому в качестве исходного материала для анализа, обобщений, систематизации дана «речь», а последняя за вычетом процесса ее порождения предстает не иначе как в виде письменного текста; из этой «речи» лингвист и «извлекает», например, по А.И. Смирницкому, «язык»,единственно в «речи» и существующий ( Смирницкий , 1954, с.19,29 – 30). Венчается такое представление о лингвисте замечанием А.А. Леонтьева о том, что «лингвист органически не способен думать в терминах процессов: он оперирует только единицами и их свойствами» ( Леонтьев , 1969б, с.104).
Способности лингвистов вряд ли имеют отношение к рассматриваемому вопросу, и их можно не касаться. В том же, что касается действительной деятельности лингвиста, все обстоит в определенном отношении в точности наоборот. Ибо материал лингвиста, называемый текстом, представляет собой , во всяком случае в исходный момент обращения к нему, процесс : зрительные (и тем более звуковые) сигналы, поступающие на соответствующие органы субъекта восприятия из интерсубъективной среды,не «несут» в себе информацию, а возбуждают ее в воспринимающем их воздействие индивиде, в частности в лингвисте, и функционируют в качестве языковых знаков в его голове, при посредстве его психофизиологического «языкового механизма». Адресат речи воспроизводит в своем сознании – с той или иной мерой адекватности – осуществленный отправителем речи процесс соотнесения смыслового задания высказывания с значениями языковых знаков (включая, разумеется, значения синтагматических моделей), которые вовлечены в его выражение. Лингвист – в качестве адресата речи, к которой он обращается как к своему материалу, – может, конечно, мысленно отвлекаться от процесса формирования речевого потока и представлять себе его сегменты как «результативные образования». Это может быть полезно и необходимо для постановки и решения некоторых задач. Но «результативным образованиям» («продуктам») речевой деятельности нельзя приписывать статус непосредственных объектов (объектов наблюдения), ибо «продукт» есть нечто получающее самостоятельное существование после завершения породившей его деятельности, а сегменты речевого потока осуществляются только в нем самом. И даже занимаясь парадигматическими отношениями между элементами языковой системы, лингвист фактически имеет дело с отношениями динамического типа, так как за ассоциациями (связями) стоит ассоциирование (связывание), и если игнорировать эту динамику, то вместе с ней лишается логического основания вся плоскость языкового развития.
Вспоминается один эпизод сорокалетней давности. А.А. Леонтьев готовил материалы для сборника «Теория речевой деятельности (Проблемы психолингвистики)» (вышел в свет в 1968 г.).Автор настоящих заметок предложил раздел под заглавием «Язык человека как объект лингвистической науки». В качестве объекта лингвистики , представляемого как общий объект лингвистики и психолингвистики, в этой статье рассматривается «язык человека», т.е. психофизиологическая система индивида – вместе с переходом от нее к системе таких (непрерывно взаимодействующих в общении) систем как действительности социального языка.А.А. Леонтьев настоял на том, чтобы в заголовке (только в заголовке) выражение «язык человека» было заменено термином «языковая способность человека». Этим было достигнуто совмещение (индивидуального) «психофизиологического речевого механизма» Л.В. Щербы с «языковой способностью» в системе понятий А.А. Леонтьева, хотя и возникло противоречащее этой системе указание на подведомственность «языковой способности» лингвистике (а не исключительно психолингвистике).
Читать дальше