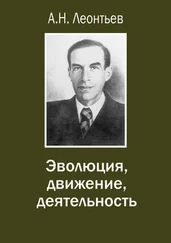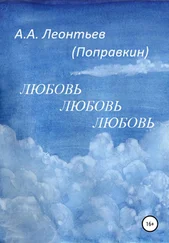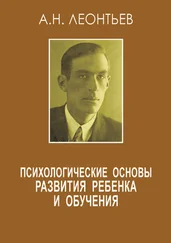1 ...6 7 8 10 11 12 ...46 Экзегетическое толкование Священного Писания – это, в сущности, и есть расшифровка системы заключенных в нем аллегорически-символических образов: «Изреченное в словах – лишь символ скрытого смысла, который обнаруживается при толковании…», «Тело закона – словесные предписания, душа же – заключенный в словах невидимый смысл», – писал еще Филон (цит. по Бычков , 1981. С. 268). Примером может служить символика апокалиптических животных, имеющих соответственно лики льва, тельца, человека и орла. По Иринею, это символы разных сторон деятельности Христа; отсюда они становятся символами четырех евангелий и даже евангелистов (Иероним), а затем – символами воплощения, смерти на кресте, воскресения и вознесения.
Наконец, третий вид образов – знаковые образы – выступает в раннехристианской культуре прежде всего как знамение – некое чудо, возвещающее собой сверхъестественное событие (знамение второго пришествия Христа и др.) – или вообще как чудо – знак божественной сущности Христа. Так, у Лактанция говорится, что страдания и чудеса Христа имеют «великую образность и знаковость» ( significatia ).
Интересное исследование символики раннехристианского средневековья принадлежит С.С.Аверинцеву. Так, он указывает, что византийский император воплощает в себе идею божественной власти, является ее живой эмблемой ( Аверинцев , 1977. С. 314). «Весь мир полон символов, – констатирует Д.С.Лихачев, – и каждое явление имеет двойной смысл. Зима символизирует собою время, предшествующее крещению Христа; весна – это время крещения, обновляющего человека на пороге его жизни; кроме того, весна символизирует воскресение Христа <���…>. Олень устремляется к источнику не только для того, чтобы напиться воды, но и чтобы подать пример любви к богу <���…>. Такими же символами “вечных” и “вневременных” отношений были растения, драгоценные камни, численные соотношения и т. д. Средневековье пронизало мир сложной символикой, связывавшей все в единую априорную систему» (1979. С. 162–163).
В основе этого понимания лежит платоновское, а затем стоическое понимание мира как отображения божественного Логоса, а самого Логоса – как своего рода порождающей модели. Применительно к платонизму это четко сформулировал А.Ф.Лосев: «Идея вещи в платонизме есть вечная и порождающая модель вещи» (1982. С. 81). Уже в рамках христианской апологетики Ориген прямо утверждает: «Логос – <���…> образец, по которому сотворен мир. В нем план мира и идеи всего сотворенного…» (цит. по Майоров , 1979. С. 95). «Ясно, что в свете такого Логоса все существующее превращалось в некоторого рода аллегорию …» ( Лосев , 1979. С. 769). К тому же источнику восходит так называемый «экземпляризм» философии Августина: «Для творимых вещей идеи выступают как образцы, по которым они творятся, как прообразы, основания и причины их бытия» ( Майоров , 1979. С. 303). И, наконец, тот же источник, что для нас особенно важно, лежит в основе широко известного направления «реализма» в средневековой схоластической философии.
Концепция реализма представлена в раннем Средневековье Ансельмом Кентерберийским и Гийомом из Шампо. С точки зрения реалистов, общие идеи (роды и виды) служат – как и для Августина – идеальными прообразами для создания единичных вещей, которые являются истинными в меру соответствия этим идеальным прообразам. Эта точка зрения находит дальнейшее развитие у Фомы Аквинского, согласно которому универсалии (идеи) имеют троякое существование: до вещей ( ante res ) – в божественном разуме; в вещах ( in rebus ) – поскольку они воплощают идеи божественного разума; и, наконец, после вещей ( post res ) – в интеллекте человека, открывающего их в мире. Предмет отражается в душе человека через свое «подобие» (ибо телесный объект не может взаимодействовать с бестелесной душой) – чувственное впечатление. Затем эти «подобия» проходят первичную обработку так называемыми «внутренними чувствами», к которым относятся, в частности, память и воображение и которые организуют первоначальный хаос впечатлений: возникает система чувственных образов. Следующий этап – обработка их разумом, то есть процесс абстракции, приводящий к выявлению видовых и родовых форм, – превращает чувственные образы в образы «умопостигаемые», помещающиеся в так называемом «возможностном разуме» ( intellectus possibilis ) – здесь формы телесных тел освобождаются от физической оболочки и начинают вести чисто духовное существование. И, наконец, последний, самый высший (для человека) этап – обработка умопостигаемых образов «активным разумом», продуктом чего являются понятия, в дальнейшем используемые при образовании суждений. Интересно, что для понятий Фома Аквинский, кроме «концепта», использует термины « species expressae », то есть «выраженные виды», или же « verba mentis » – «слова ума». Дальнейшие этапы познания уже не свойственны, по Фоме, людям, но только ангелам или богу: ангелам доступно озарение, но для него им нужны умопостигаемые образы (точнее «виды») – чувственные же образы им чужды; а бог для познания не нуждается и в умопостигаемых образах.
Читать дальше
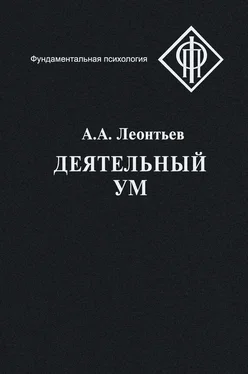

![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)