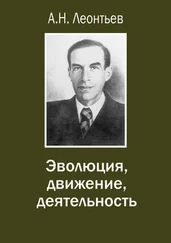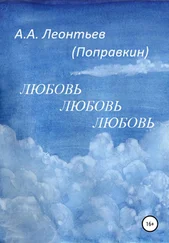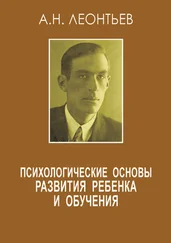Но очевидно, что, отказавшись от гумбольдтовской идеи «общественности», Штейнталю необходимо было найти какое-то другое звено, связывающее звук и психическое содержание, язык и мысль. У Штейнталя они «оказываются объяты, как одно целое, единством чувства» ( Steinthal , 1864. S. 137). Вот как ему представляется в целом механизм речевой деятельности: «Мы должны ясно различать три момента, действующие при говорении: органическую механику, психическую механику и подлежащее выражению, то есть представлению, понятийное или мировоззренческое содержание. Цель речи есть представление и изображение содержания с помощью психической и органической механики. Мы можем представить себе органическую механику в виде органа, психическую механику в виде органиста, содержание – в виде композитора» ( Steinthal , 1871. S. 483). Но «понятийное содержание» для Штейнталя опять-таки индивидуально : это содержание индивидуальной психики, выявляемое в результате интроспекции.
Таким образом, индивид у Штейнталя – сам себе композитор, органист и орган. Взаимосвязь этих компонентов происходит внутри его организма ; и при этих условиях очевидно, что язык есть явление не только целиком психическое, но и целиком индивидуальное. Это – психологизм в его классической форме, и ко взглядам Штейнталя как нельзя лучше подходит определение психологизма, данное видным лингвистом XX века, учеником Соссюра и Бодуэна де Куртенэ Витольдом Дорошевским: «направление, представители которого усматривали движущие силы развития языка в области индивидуальной психики, автономной по отношению к внешним стимулам» ( Дорошевский , 1956. С. 69).
Что же в таком случае объединяет носителей языка, откуда берутся языки «племенные» и «национальные»? По Штейнталю, «все индивиды одного народа носят отпечаток <���…> особой природы народа на своем теле и душе», но прежде всего на теле, ибо они связаны единством физической организации (благодаря единству происхождения и единству среды), а «воздействие телесных влияний на душу вызывает известные склонности, тенденции, предрасположения, свойства духа, одинаковые у всех индивидов, вследствие чего все они обладают одним и тем же народным духом» ( Штейнталь , 1960. С. 114–115). Следовательно, единство языкового коллектива для Штейнталя – это а ) единство физической организации, опирающееся на единство органической механики, и б ) основанное на нем единство духовной организации. А раз так, то и в психической механике, связывающей то и другое, появляется нечто общее. Вот это-то общее и является предметом «психологии народов» и в частности (ведь языкознание есть часть психологии!) – языкознания. Но в основе этой общности лежит физическая организация и среда обитания…
Позиция другого ученика Гумбольдта – Александра Афанасьевича Потебни – во многом противоположна позиции Штейнталя. Правда, и у Потебни мы находим убеждение в исключительно психической природе речевого акта; но он противопоставляет слово как объективированную мысль самому процессу языкового мышления. Эта «объективированная мысль» есть достояние общества: без слова невозможно было бы никакое предание, никакая ступень человеческого знания. Но, будучи таким достоянием, оно (слово) сохраняет свою психологическую природу: « Говорить значит не передавать свою мысль другому, а только возбуждать в другом его собственные мысли» ( Потебня , 1976. С. 541).
Гумбольдтовская идея социальной сущности языка и единства в нем объективного и субъективного воспроизводится и Потебней: «Язык есть потому же условие прогресса народов, почему он орган мысли отдельного лица» ( Там ж е. С. 197). Он есть основное средство передачи социального опыта отдельному человеку: «Одно только слово есть monumentum aere perennius , памятник прочнее меди, как сказал Гораций» ( Потебня , 1989. С. 198). И «в действительности язык развивается только в обществе» ( Там же . С. 225). « В языке человек объективирует свою мысль и благодаря этому имеет возможность задерживать перед собою и подвергать обработке эту мысль » ( Потебня , 1976. С. 541).
Но «объективирование мысли в слове, когда человек как бы смотрит на свою мысль, ставшую как бы внешним предметом, есть выражение переносное. На самом деле этого, конечно, не происходит. Это можно сравнить со следами ног, отпечатавшихся на песке; за ними можно следить, но это не значит, чтобы в них заключалась сама нога; в слове не заключается сама мысль, но отпечаток мысли» ( Там же . С. 542).
Читать дальше
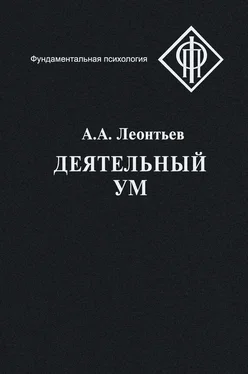

![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)