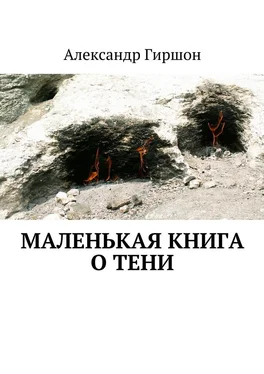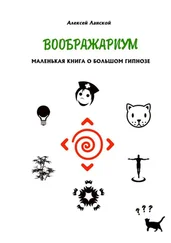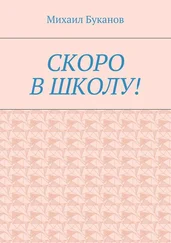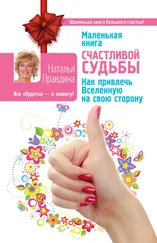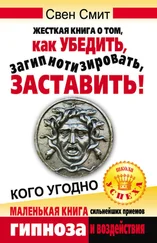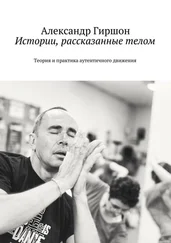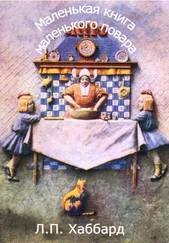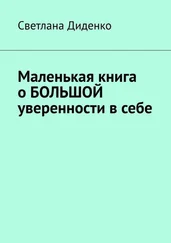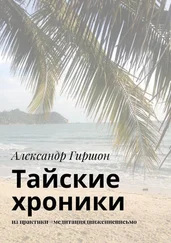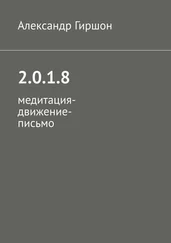Если герой убивает дракона и берет себе сокровища, он сам становится драконом. Для меня это иллюстрация тезиса о том, что с тенью нельзя бороться, но ее важно сдерживать. Что сокровища тени, особенно самые глубокие, нужны для больших целей, а не просто для личной выгоды.
Тень в литературе
Много лет назад Ханс Кристиан Андерсен написал сказку про тень, отделившуюся от своего господина и начавшую жить своей собственной жизнью. Из этого не вышло ничего хорошего. Ученый, потерявший тень (а печальная ирония сказки состоит в том, что он сам отправил ее в самостоятельное путешествие), так и не смог донести до людей то разумное, доброе, вечное, что лежало в основе его трудов. А тень стала важной и преуспевающей и в результате убила своего бывшего хозяина. Евгений Шварц, написавший прекрасную пьесу по мотивам сказки Андерсена, ярко показал, как тень ловко реализуется в динамике отношений власти.
И наверное, самым прямым литературным воплощением отношений тени и персоны является повесть Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». История о том, как с помощью науки добропорядочный Генри Джекил находит внутри себя отвратительного мистера Хайда, который в конце концов выходит из-под контроля. История заканчивается смертью обоих.
Заграница
Несколько лет назад у меня родилась интересная метафора про отношения сознательного «я» с тенью – отношения двух государств: они могут быть в состоянии игнорирования друг друга, войны, или переговоров, или экономической блокады и подрывных действий, но лучшая форма отношений для государств – цивилизованный визовый режим и периодические совместные мероприятия.
Вначале из-за слишком большой разницы в государственном устройстве возникают недоверие и вражда, подозрение и неприятие. Потом оказывается, что победить никого нельзя. Самые любопытные начинают изучать обычаи и язык друг друга. Определяются границы, на границах – пограничные войска. Появляются контрабандисты и перебежчики. Постепенно формируются договоренности и правила: посольства, делегации, визы. Визы даются не всем. Потом можно и визовый режим отменить, как сейчас у России с Израилем.
Но пограничные службы и службы безопасности лучше оставить – слишком разные обычаи у тени и у персоны.
Древний китайский мудрец Чжуан-цзы так пишет о контакте с тенью:
«Жил человек, который был так обеспокоен видом своей собственной тени и так недоволен своими собственными следами, что решил избавиться от того и от другого.
Метод, который он нашел, – убежать от них. Так он встал и побежал. Но он все время ставил ноги (на землю) и оставлял другой след, пока тень держалась возле него без единого затруднения. Он приписал свою неудачу тому, что бежал недостаточно быстро. Так он бежал все быстрее и быстрее, не останавливаясь, пока наконец его не настигла смерть.
Ему не удалось понять, что, если бы он просто остановился в тени, его тень исчезла бы, а если бы он сел и оставался спокойным, не было бы больше следов».
В этом небольшом историческом обзоре мне хотелось обозначить не только фактическое появление термина «тень» в психологии, но и обратить внимание на более широкий контекст. Тень во множестве своих обличий может быть обнаружена в разное время и в разных культурах. В ХХ веке она получила новое имя и новые способы обращения с ней.
И конечно, отправляясь на встречу с тенью, важно помнить, что образ тени – это только метафора, удобный для некоторых случаев способ описания нашей цельной, живой и многообразной психологической жизни. Мы можем описать те же самые явления, поведение и внутренние переживания человека, не используя понятие тени, но иногда именно эта перспектива многое проясняет и задает направление работы, вовлекая не только рациональную часть нас, но и ту силу, что раскрывается в воображении и эмоциональном проживании, раскрывается через творчество и размышления, общение и создание новых форм.
По-прежнему остаются актуальными слова Марии фон Франц: «Установление контакта с тенью – пожизненный процесс всматривания и правдивого отражения того, что мы видим. Надо только удержаться в нашем основном, аутентичном ядре, нашей сокровенной самости».
Чтобы как-то ориентироваться в глубине теневого мира, я выделяю три слоя: слой теневых персонажей, личную тень и архетипическую тень. Они отличаются глубиной и соотношением с силой «я». Если теневой импульс ощущается меньше, чем «я», если есть «понимаю, что могу с ним справиться» – мы имеем дело с теневыми тенденциями, или персонажами. Если теневое проявление ощущается как равное «я», «могу справиться, но на пределе», возможно, мы имеем дело с личной тенью. Если же тень переживается как большая сила, глубинная и могущественная, как сила, которая больше отдельной личности, скорее всего, мы имеем дело с тенью как архетипом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу