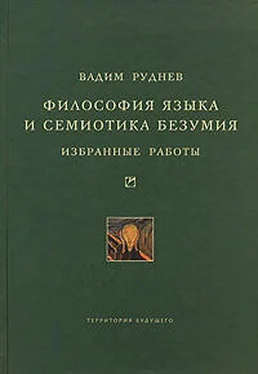Однажды, когда я вошел в комнату пациентки, она стояла на середине комнаты, пристально глядя в пустоту дверного проема и стараясь не двигаться с места, ее щеки раздулись от выделяющейся слюны, которую она, очевидно не могла себе позволить ни проглотить, ни сплюнуть. <���…> Когда я спросил ее, что находится на полу, она ответила мне с трудом и внимательно следя, чтобы не выпало ни капельки слюны изо рта: «Мухи». На мой вопрос, разве не разрешено их топтать, она ответила с аффектом «Нет, они должны быть оставлены живыми» [Тэхкэ: 330].
Далее психоаналитик догадывается, что мухи символизируют сиблингов (братьев и сестер), а пациентка знала, что у аналитика есть дети, которых она, будучи теперь функциональной дочерью «матери» – аналитика, приравнивала к своим сиблингам. Тогда психоаналитик отважился на интерпретацию:
Подбодрив ее своими комплементарными эмпатическими откликами на нее и ее послания, я сказал ей дружелюбно и спокойно, что мухи, очевидно, были моими детьми, которых она пыталась защитить от собственного желания, чтобы они были убиты, поскольку я ежедневно уходил к ним вместо того, чтобы оставаться с ней, как она этого хотела.
Эффект моих слов на поведение пациентки был моментальным. Ее лицо покрылось густым румянцем, она одним залпом проглотила огромное количество слюны во рту, издала короткий смех стыда и облегчения и присела на край своей постели [Тэхкэ: 330].
Автор книг «Психика и ее лечение» тонко чувствует постсемиотический статус своих пациентов. Он подчеркивает:
С точки зрения глубоко регрессировавшего пациента, позитивное аффективное переживание, получаемое от услышанных слов, передается через то, как они были сказаны, через их «либидинальный» тон и мелодию, а не через абстрактное содержание. < …>
То, что могло представляться эффективным как увеличение знания о себе, может, таким образом, быть эффективным в основном в качестве колыбельной [Тэхкэ: 319–320].
Автор подчеркивает аутистическую пустоту своих пациентов и контртрансферентное одиночество аналитика рядом с этой пустотой (ср. важность понятий пустоты и одиночества в «Чевенгуре» Платонова).
На относительный декатаксис симбиотических структур и движение к аутистической пустоте, которые представляют симбиотическую неудачу пациента, аналитик склонен реагировать чувством, что он оставлен в одиночестве и уменьшением комплиментарных откликов на пациента [Тэхкэ: 305].
Далее автор пишет о значении внешне кажущихся парадоксальными вещей. О том, что надо способствовать расщеплению объекта на «хороший» и «плохой», надо создавать образ «абсолютно плохого» объекта для того, чтобы пациент мог создать альтернативу «абсолютно хорошему» объекту (аналитику), ведь даже бинарность мышления утрачивается в недифференцированном состоянии; на позитивную роль тревоги и на то, чтобы в пациенте восстанавливать депрессию. (Что, конечно, соответствует взглядам Мелани Кляйн о важности депрессивной позиции в создании целостного объекта [Кляйн и др., 2001].)
Депрессия является первым психическим способом бороться с текущей объектной утратой и как таковая служит важной защитой от утраты диффренцированности [Тэхкэ: 231].
Мелани Кляйн подчеркивала позитивность депрессивной позиции в развитии младенца, говоря о том, что на этой позиции впервые в жизни человека объект (мать) воспринимается как целостный объект (что мы назвали архаической идентификацией с матерью). Сущность депрессии как взрослого заболевания, регрессирующего в той или иной степени на младенческую депрессивную позицию, состоит в том, что субъект вновь, как в младенчестве, обретает одно фрустрированное прото-желание воссоединения с материнской грудью, и соответственно у него появляется архаическая аксиологическая прото-модальность. При этом можно с достаточной долей уверенности предположить, что «зрелые» Эдиповы модальности долга и желания у депрессивного субъекта редуцируются или пропадают вовсе. Действительно, депрессивный человек больше ничего не хочет, но больше никому и не должен. Есть ли какой-то смысл во всем этом? Ведь взрослый субъект обладал уже и желаниями и обязанностями, любил и ненавидел кого-то и был должен кому-то. Почему он возвращается в давно оставленную стадию, и с какой целью это происходит? Беда и трудность депрессии заключается в том, что она происходит с таким субъектом, у которого в исходной точке было все неблагополучно, то, что психоаналитики называют оральной фиксацией. Поэтому он возвращается не к любящей, а фрустрированной матери. В этом, по нашему мнению, состоит парадокс депрессии как защитной реакции человеческого организма. Он от всех обид и крушений возвращается к маме, но мамы там нет. Вот почему депрессия так тяжела и гнетуща. Почему же она в таком случае вообще проходит? Ведь мама не появится, откуда не возьмись. Но, как известно, депрессии рано или поздно проходят. Что происходит в этом случае? Депрессия избывается. Как же она избывается? Траур по утерянной матери или другому сверхценному объекту не вечен. От депрессии не умирают. Проходит время, и начинается наращивание забытых модальных структур. Появляются какие-то новые объекты, появляется новая профессиональная сфера. И забытые модальные структуры долга и желания вновь актуализируются.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу