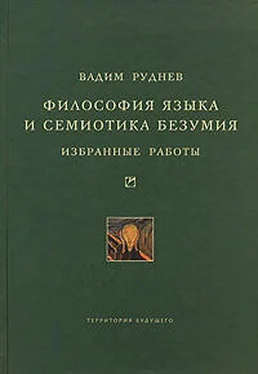Правила для конвенционализации предоставляет сам язык. В языке заложена возможность одну и ту же вещь называть по-разному, приписывать одному денотату множество значений, одному предмету множество имен и дескрипций. На этом построен эффект универсальности метафоры и метонимии. Одного и того же человека можно назвать по имени, фамилии, прозвищу, дать ему множество новых прозвищ и кличек, он может быть описан как сын, отец, брат, зять, шурин и т. д., как «милый», «негодяй», «безответственное трепло», «истинный джентльмен», «хам», «само совершенство», «вылитый дядя Коля в юности», «гениальный шахматист», «полное ничтожество», Тартюф, дон Жуан и т. д. В сущности, любой объект может быть назван любым именем. На этом построена поэзия. Ср. стихотворение Ахматовой о том, что такое стихи. Она говорит, что стихи это все, что угодно:
Это – выжимки бессонниц,
Это – свеч кривых нагар,
Это сотен белых звонниц
Первый утренний удар…
Это теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это – пчелы, это – донник,
Это – пыль, и мрак, и зной.
Именно этой особенностью языка, его невротической перенасыщенностью значениями, пользуется параноик. В случае паранойи ревности в качестве предмета, который должен быть поименован или описан, выступает измена жены, которую опять-таки можно выразить при помощи неограниченного количества имен и дескрипций, различного рода жестов и мимических движений, красивой одежды, следам не теле, уходу и приходу в любое время. Как любому денотату в принципе может быть приписано любое имя и дескрипция, так и конкретному денотату «измена жены» может быть поставлен в соответствие любой признак и любое действие. Конвенция здесь заключается между языком и самим параноиком. Язык позволяет это делать.
Возвращаясь к началу статьи, к цитате из Фрейда, можно сказать, что идея соотнесенности истерии и искусства (иконичность плюс аксиологичность) так же, как обсессии и религии (повторение и мистика), понятна. Все же слишком сильным кажется соотнесение паранойи и философии. Более привычным кажется представление, что философ это шизоид. Но во время написания книги «Тотем и табу» такого понятия, как шизоид, не было. Его позже ввел Кречмер в книге «Строение тела и характер». Слово «паранойя», как оно употребляется Фрейдом в работе о случае Шребера [Freud, 1981], по экстенсионалу скорее соответствует тому, что в нынешней терминологии называют параноидной шизофренией. Во всяком случае, хотя бредовая система Шребера носила связный и внутренне логичный характер, но она вся основана не на бытовой семиотике, как классическая крепелиновская паранойя, а на галлюцинациях – общении с божественными лучами, разговорах с Богом и т. д. То есть, в сущности, говоря о родстве паранойи и философии, Фрейд видимо имел в виду паранойяльноподобное стремление философа строить систему знаков, мало считающуюся с реальным положением вещей в угоду заранее сформулированной концепции. Сам Фрейд с гордостью считал себя не философом, а ученым, занимающимся концептуализацией конкретных вещей, то есть, по-нашему, шизоидной семиотизацией «реальности».
Но на самом деле не существует принципиальной разницы между гуманитарной наукой и философией. И если рассматривать такие жесткие философские системы, как, например систему витгенштейновского «Трактата», то там действительно есть элементы паранойяльности: имеется одна главная мысль-посылка, что «все, что может быть сказано, должно быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать». И вокруг этой мысли, которая сама по себе, конечно, спорна (и впоследствии была опровергнута самим поздним Витгенштейном), закручивается дальнейшая «бредовая фабула»: учение о взаимном соответствии предметов, положений вещей и фактов, с одной стороны, и имен, элементарных пропозиций и пропозиций, с другой; толкование логических пропозиций как тавтологий; выведение общей формы предложения из тотального отрицания всех предложений; отказ в существовании этике, которая «невыразима», и т. д.
Конечно, «Трактат» полностью не укладывается в паранойяльную парадигму. Мистические его идеи – обсессивны, а наиболее шокировавшая логиков мысль, что не надо ничего говорить, надо молчать – интроективна, депрессивна, то есть антисемиотична (что не удивительно, так как во время написания «Трактата» Витгенштейн страдал тяжелейшей суицидальной депрессией [McGuinnes, 1989]). Но характерно также и то, что попытка Рассела шизоидизировать «Трактат» в своем предисловии к его английскому изданию, придать ему стандартную форму нормальной математической философии, встретила у Витгенштейна протест, так как вместе с водой Рассел выплескивал из корыта ребенка. «Трактат» был интересен именно своей нестандартностью, паранойяльностью. Но тогда за эту паранойяльность зацепились Шлик и его друзья из Венского кружка и сделали из этой моноидеи целое философское направление, которое носило подлинно паранойяльный характер: есть только предложения опыта, «протокольные предложения», цель философии – верификация, постоянная проверка того, истинно это предложение или ложно, а если не то и не другое, то оно бессмысленно [Шлик, 1993]. Такая жандармская суперпаранояйльная философия продержалась недолго. В ее недрах зародилось антипаранойяльное направление, которое говорило, что не истинность правильного является критерием хорошей теории, а ложность неправильного (фальсификационизм Поппера). Позднее и эта версия показалась слишком жесткой. Последним жестким паранойяльноподобным течением в философии, взыскующим истины, был структурализм, особенно в его отечественном, «остзейском» изводе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу