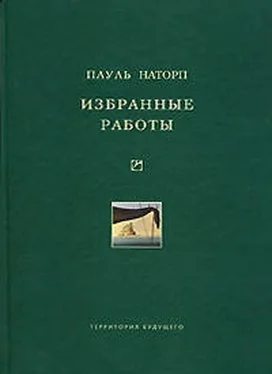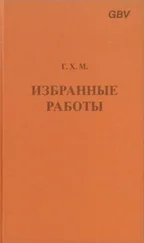И теперь уже с давних пор не только я один или немногие люди, подобные мне, но очень широкие круги народа горько ощущают этот недостаток и притом все тяжелее; скоро он явится проклятием, которое взвалила на нас школа. Если школа не одумается вскоре и не пойдет по другому пути, то она подвергнет себя серьезной опасности, что народ забудет воздать ей благодарность за все то хорошее, за что тем не менее он обязан ей быть благодарным, и, пожалуй, даже займет по отношению к ней враждебную позицию. От этого ее не смогут защитить ни отдельные руководители с самым свободным образом мыслей, ни все ее лучшие работники.
Но что же должно произойти, что можно сделать в этом случае? Я недавно упомянул о Лице; он следует примеру англичан. За английский метод воспитания, который так сильно отличается от немецкого своим свободным характером, хотя в других вещах он стоит позади его, за последнее время раздается все больше и больше голосов. В играх и спорте уже достаточно энергично последовали этому примеру. Движение, вызванное Вандерфогелем, является хорошим дальнейшим шагом вперед, и в высшей степени отрадно, что вдумчивые учителя и учительницы все больше и больше приобщаются к этому хорошему делу, вместо того чтобы, как это еще, к сожалению, часто случается, бороться против него, руководясь мелочным недоверием, и если не совсем запрещать его, то всякими способами препятствовать и губить это движение. Конечно, и здесь существуют опасные стороны: как раз неподготовленное промежуточными ступенями и признанное только как исключение наделение одной какой-либо отдельной свободой в системе общей несвободы является, может быть, делом более опасным, чем система общей свободы. Я совсем не принадлежу к числу тех, кто думает, что люди без труда могли бы сделаться ангелами, если бы только дать им свободу; я знаю только, что они становятся дьяволами, когда чувствуют себя порабощенными. Я думаю, мне незачем добавлять к этому, что я понимаю свободу не как противоположность порядку и организации, а как порядок, установленный самими свободными индивидами, в противоположность принудительным правилам, навязанным только извне.
Вероятно, некоторым из вас известна статейка Йог. Лангермана «Воспитательное государство по основным положениям Штейна, Фихте, проведенное в одной вспомогательной школе». Идея его не совсем нова, и сам автор вовсе не претендует на это. Известно, что в Америке часто проводится «школьное государство». Лангерман справедливо видит ценность своей находки в практической проверке самой идеи, а именно в виде воспитательного союза, построенного на принципе полной и неограниченной свободы, и испробовал его не на Лицовском воспитательном учреждении на лоне природы, которое посещается, в общем, довольно хорошо одаренными воспитанными детьми состоятельных классов, а в настоящей воспомогательной школе, т. е. в среде 40 детей от 8 до 13 лет обоего пола, состоявшей из слабоодаренных и совсем неодаренных, почти до идиотов включительно, детей из промышленного округа большого города, в котором под влиянием фабрик и алкоголя отсутствовала какая бы то ни было упорядоченная семейная жизнь, – своего рода настоящий образцовый опыт в духе Песталоцци. И самое лучшее заключается в том, что он сверх всякого ожидания удался!
Путь Лангермана действительно был совершенно в духе Песталоцци. Когда читаешь его доклад, то кажется, будто читаешь главу из «Лингарда и Гертруды». Он начинает с того, что дает детям обрабатывать еще нетронутый клочок земли по их собственному плану, одобренному и установленному детьми сообща в совершенно парламентарной форме. При этом оказываются необходимыми своего рода законодательство, управление, особенно же финансовый порядок, а также судебные установления. Эти функции производятся не учителем, властвующим над детьми, а самими детьми; учитель только незаметно руководит ими, поясняет им непосредственно на самой вещи, на встречающемся пережитом случае, что это необходимо и как это сделать. Не было такого слабоумного ребенка, который бы не понял этого. И так во всем. Дети должны сначала опять-таки убедиться на опыте (это напоминает особенно Руссо, а также и Песталоцци), что это крайне полезно и совершенно необходимо для их собственной с воодушевлением принятой цели, а затем убеждаются, что необходимо уметь писать и читать; таким образом детей учат не потому, что это входит в учебный план, что государство, или общество, или священник, или родители, или какие-нибудь другие вершители судеб школы порешили так в своей мудрости, что дети должны этому учиться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу