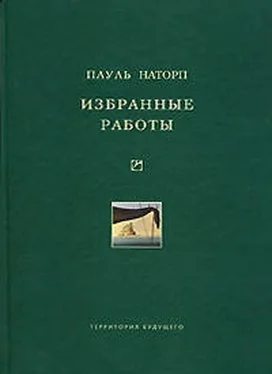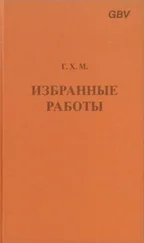Но понятие опыта допускает, быть может, еще и дальнейшее расширение, благодаря которому применение этого понятия не ограничится одними только определениями бытия или установлением «процессов» во времени, а охватит всю « положительную» сферу познания, которая хотя всегда представляется и всегда может быть вскрыта в бытийственном развитии, а значит, и во временной рядоположности, а постольку и эмпирически, но все же в силу одного этого еще не должна быть ограничена только временным значением, а может выразиться в определенных объектополаганиях (Objektsetzungen) вневременного характера. К сфере, таким образом, расширенного «опыта» принадлежат все положительные учения экономики, права и педагогики, принадлежит не в меньшей степени позитивная сторона теории искусства и учения о религии, но так же – как принадлежащий к культурному достоянию, как сам эмпирически данный – и весь положительный состав учений «теоретических» наук: математики, физики, биологии, а таким образом, в конце концов и натуралистической психологии. Для всего этого существует собственная и притом даже не единственная, а двойная методика сама по себе ненатуралистического характера, методика « догматическая,> и « историческая, ». Для первой из них преодоление точки зрения определенного во времени бытия явствует само собой; вторая же из них, правда, прибегает к рассмотрению во времени и подчиняет ему все положительное, что дается «догматикой»; но если присмотреться поближе, то окажется, что и интересом исторической методики, что и ее основным вопросом является не временный порядок совершающегося как таковой. Ее существенный интерес не в том, что было прежде и что после и как последующее было обусловлено предшествующим, словом – не место событий во времени, а как раз наоборот: ее работа направлена именно на то, чтобы спасти прошлое для времен будущих и, если б это было возможно, даже для вечности, чтобы оградить «минувшее» именно от «мимолетности», чтоб обогатить им настоящее и будущее и возвысить их над самими собой, другими словами, чтобы именно, насколько это возможно, преодолеть расколотость времени. Представляющееся во времени она стремится уловить как раз в его сверхвременной «значимости» и тем самым «увековечить» его. Тем не менее было бы односторонним просто отожествлять «науки о духе» или «о культуре» с науками историческими; в действительности, вся сфера этих наук о духе всегда подлежит обеим этим точкам зрения сразу – как исторической, так и догматической, то есть конструирующей, сверхвременно и притом в таком порядке, что историческое рассмотрение, собственно, является лишь предварительной ступенью, лишь подготовлением материала для рассмотрения догматического.
Следует ли из этого, что психология, как общая, наука о сознании, об осознанном бытии, может обнять «опыт» в любом его смысле (потому что «обрести в опыте» ведь значит пережить, все же доступное переживанию принадлежит к сфере сознания)? Если б это было так, психология в конце концов должна была бы вобрать в себя все положительное содержание наук о культуре, как догматического, так и исторического порядка, что охватывало бы собой в известном смысле и все естественные науки, которые ведь и сами являются фактами культуры. Значит ли это, что психология должна являться чем-то вроде универсальной, науки о положительном ? Но ведь и на почве натуралистического воззрения к психологии не причисляют всего положительного, что содержится в естествознании; вот почему, подобно тому как в рамках натуралистического отвлечения психология нашла свою, ей одной лишь свойственную задачу в последней конкретизации бытийственных определений, так и после того, как эти рамки распались, у психологии перед лицом расширившейся теперь сферы эмпирического, как позитивного любого порядка, все же остается еще своя, особенная задача последней конкретизации определенного положительного сознания вообще. Эта «последняя конкретизация», являющаяся предметом исканий психологии, должна была бы, следовательно, прежде всего строго связать воедино: с одной стороны – это как бы пунктуальное определение бытия, а с другой – определение направления того (вышеуказанного) сверхдействительного тендирования вперед и назад (при историческом рассмотрении), а также, в известном смысле, и вверх, и вниз (при рассмотрении догматическом). Как в точности понимать эту последнюю конкретизацию, как ее методически осуществить и в чем заключается ее своеобразная познавательная ценность – это исследовать здесь не место. Но поскольку это вообще является задачей, постольку очевидно, что она должна находиться к философии в весьма тесном и интимном отношении и притом должна относиться к ней, как целое к целому, а не только как одна из областей более обширного царства (положительного вообще) к другой ее части.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу