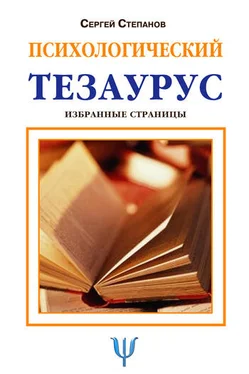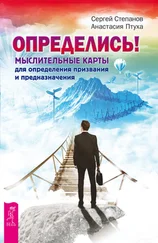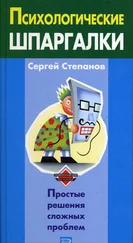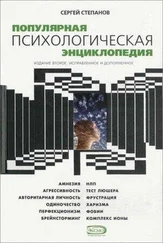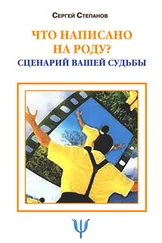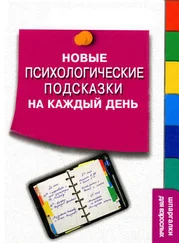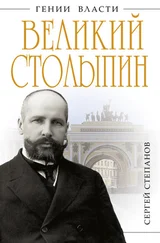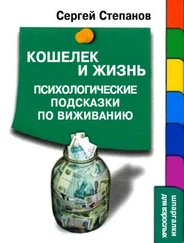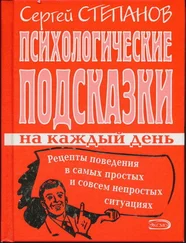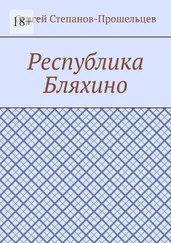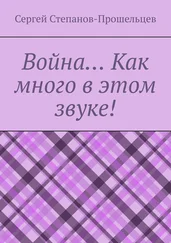Тот, кто совершает открытие, видит то, что видят все, и думает то, что никому не приходит в голову.
Альберт Сент-Дьерди
ИНСАЙТ(англ. insight) – внезапное понимание существующих отношений и структуры целостной ситуации, посредством которого достигается осмысленное решение проблемы. В большинстве справочных источников указывается, что данное понятие было введено в гештальтпсихологии в первой четверти ХХ в. Это, безусловно, справедливо, если только иметь в виду, что явления, описываемые этим термином, отмечались еще в античных источника. В конце концов, знаменитое архимедово «Эврика!» – ни что иное как констатация инсайта.
Приоритет в описании этого явления (без употребления самого термина) по праву следовало бы отдать французскому математику и теоретику научного творчества Анри Пуанкаре (его очерки о науке и научных открытиях поражают психологической глубиной, редкой даже для «титульных» психологических трудов). Еще в конце XIX в. Пуанкаре сделал перед Парижским психологическим обществом доклад «Математическое творчество», в котором проанализировал специфику математических способностей и описал на собственном примере особенности возникновения научных открытий.
По признанию Пуанкаре, многие оригинальные идеи, впоследствии выдвинувшие его в ряды выдающихся математиков, пришли к нему вовсе не в ходе целенаправленной умственной деятельности за письменным столом, а в совершенно неожиданных обстоятельствах: одна – на подножке автобуса, другая – во время прогулки по берегу моря, третья – на бульваре. Однако появлению каждой новаторской идеи предшествовал долгий этап подготовительной работы – как сознательной, так и бессознательной. Пуанкаре рассказывал: «То, что вас удивит прежде всего, это видимость внутреннего озарения, являющаяся результатом длительной неосознанной работы; роль этой бессознательной работы в математическом изобретении кажется мне несомненной. Часто, когда работают над трудным вопросом, с первого раза не удается ничего хорошего, затем наступает более или менее длительный период отдыха, и потом снова принимаются за дело. В течение первого получаса дело вновь не двигается, а затем вдруг нужная идея приходит в голову».
Пуанкаре делает предположение, что отдых – лишь видимый, на самом деле этот «отдых» заполнен бессознательной работой. Последняя же, по мнению ученого, приносит плоды, лишь когда ей предшествует период сознательной работы. Вдохновение – не дар небес, а результат труда, и порой огромного, но не всегда видимого и даже осознаваемого.
Зачем нужен второй период сознательной работы после озарения? «Нужно использовать результаты этого озарения, вывести из них непосредственные следствия, – объясняет Пуанкаре, – привести в порядок доказательство. Но особенно необходимо их проверить. Я уже говорил о чувстве абсолютной уверенности, которое сопровождает озарение; в рассказанных случаях оно не было ошибочным, но следует опасаться уверенности, что это правило без исключения; часто это чувство нас обманывает, не становясь при этом менее ярким, и заметить это можно лишь при попытке строго сознательно провести доказательство». С современных позиций к этому можно было бы добавить, что ученый чувствует правильные и неправильные комбинации идей, тогда как искусственный интеллект способен лишь перебирать те и другие. Самый совершенный компьютер – это лишь аналог логической части нашего сознания, а логика бесчувственна. Чувства ученого таятся в его подсознании и подсказывают правильное решение.
«Может вызвать удивление обращение к чувствам, когда речь идет о математических доказательствах, которые, казалось бы, связаны только с умом. Но это означало бы, что мы забываем о чувстве математической красоты, чувстве гармонии чисел и форм, геометрической выразительности. Это настоящее эстетическое чувство, знакомое всем настоящим математикам. Воистину, здесь налицо чувства!» Получается, что полезные комбинации – те, которые больше всего воздействуют на это врожденное чувство математической красоты. Можно ли развить это чувство? По сей день психология не может дать ответа на этот вопрос.
Так или иначе, эстетическое чувство играет роль своеобразного фильтра, отсеивающего неправильные комбинации идей. Если такого фильтра нет, то математические задачи не могут решаться, и человек не способен стать математиком-творцом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу