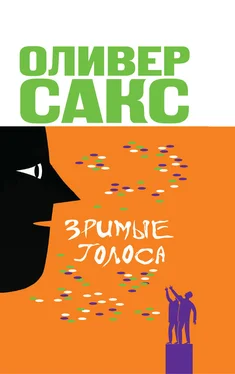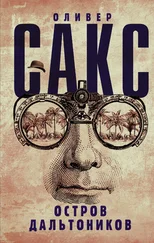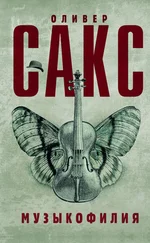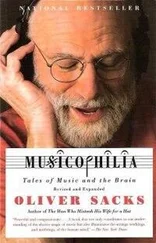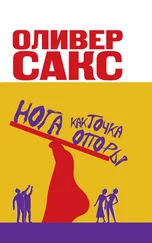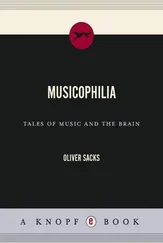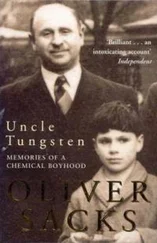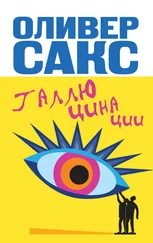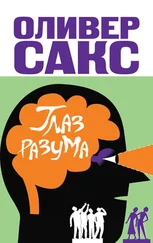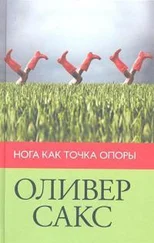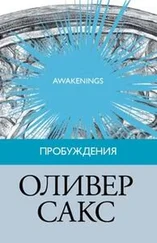Есть и другие способы создания такого формального пространства, как и усиления визуально-когнитивной функции вообще. Так, с распространением за последнее десятилетие компьютеров появилась возможность организовывать и перемещать логическую информацию в (компьютерном) «пространстве», создавать (а также вращать и иным образом трансформировать) сложнейшие трехмерные модели или фигуры. Это привело к появлению нового рода навыков – к способности создавать совокупности мысленных образов (в частности, мысленно представлять топологические преобразования) и к способности к визуально-логическому мышлению, которое раньше, в докомпьютерную эру, встречалось очень редко. С помощью компьютера практически каждый может стать экспертом в этой области, по крайней мере каждый, кому еще не исполнилось 14 лет. После этого возраста трудно научиться искусству пространственного воображения, так же как трудно овладеть чужим языком до такой степени, чтобы свободно говорить на нем. Родители все чаще и чаще обнаруживают, что их дети могут стать компьютерными кудесниками, а сами они нет. Вероятно, это еще один пример «критического возраста». Представляется, что для усиления визуально-когнитивной и визуально-логической функции требуется раннее смещение доминирования к левому полушарию мозга.
Способ этот хоть и новый, но потенциально универсальный. Ибо в Мартас-Винъярд все население – и слышащее, и глухое – смогло стать носителями языка жестов. Следовательно, способность, то есть нейронный аппарат, усвоить пространственный язык (и все сопутствующие нелингвистические пространственные навыки) есть практически у каждого человека.
Существует, должно быть, великое множество нейронных потенциалов, с которыми мы рождаемся и которые могут развиться или зачахнуть в зависимости от потребности. Развитие нервной системы, а в особенности коры головного мозга, оставаясь в рамках генетической обусловленности, направляется и формируется ранним опытом. Так, способность к различению фонем необычайно высока в первые шесть месяцев жизни, а потом ограничивается фонемами той речи, какой ребенок окружен в действительности. Поэтому японские дети перестают различать фонемы «л» и «р», а американские перестают различать японские фонемы. Дело при этом не в том, что нам не хватает нейронов; нет никакой опасности истощения запаса нейронов из-за развития какого-то одного потенциала, как нет и риска, что это затормозит развитие других потенциалов. Напротив, есть основательная причина для создания возможно более богатого в лингвистическом отношении (как и во многих других отношениях) окружения в период наибольшей пластичности мозга ребенка.
Это лингвистическое использование лица представляет особый аспект языка жестов и не имеет ничего общего с обычной экспрессивной мимикой, да и основано оно на совершенно иных нейронных механизмах, что было недавно показано в опытах Дэвида Корины. Изображения лиц, выражения которых можно было трактовать как «аффективные» или «лингвистические», предъявляли с помощью тахископа поочередно в правом и левом поле зрения глухим и слышащим испытуемым. Слышащие испытуемые обрабатывали «лингвистические» выражения правым полушарием, а глухие отдавали предпочтение левому при декодировании «лингвистических» выражений.
Немногие исследованные случаи поражений головного мозга у глухих показывают ту же диссоциацию при восприятии аффективных и лингвистических выражений лиц. Так, при поражениях левого полушария носителей языка жестов лингвистические «предложения» на лицах становятся непонятными и неразличимыми (это является составной частью знаковой афазии у носителей языка жестов), но при этом полностью сохраняется способность распознавать аффективные изменения в выражении лица. И наоборот, при поражениях правого полушария возникает неспособность распознавать лица и читать их обычное, экспрессивное или аффективное выражение (то есть развивается обычная прозопагнозия). Тем не менее в последнем случае сохраняется способность к беглому владению языком жестов.
Эта диссоциация в восприятии аффективных и лингвистических выражений лиц распространяется и на способность воспроизводить такие выражения. Так, один больной с поражением правого полушария, обследованный группой Беллуджи, был способен воспроизводить лингвистические выражения лица, но потерял способность к мимической экспрессии и к мимическому аффекту.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу