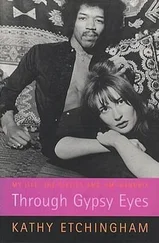Если открытые проявления гнева ранят душу сразу, то подавленный гнев часто опустошает брачные отношения. Я не понаслышке знаю о деструктивной роли подавленного гнева, поскольку первые тридцать три года своей жизни тоже жил в подавленном состоянии и моя депрессия в конечном итоге привела к разводу с моей первой женой. А причина этой депрессии была в том, что я еще в детстве загнал в глубь себя ощущение боли и гнева. Как это мне сейчас ни стыдно вспоминать, но я, потеряв в возрасте шести лет обоих родителей, не испытывал особых эмоциональных страданий. Когда мама скоропостижно скончалась от сердечного приступа, я даже не плакал. И я помню, что родственники принялись хвалить меня за «мужественность». Рассуждая по–детски, я этот комплимент превратил в директиву: «Тебя будут ценить, если будешь бесчувственным». Я хорошо усвоил урок: в молодые годы я стал благодарить судьбу за то, что мои родители так рано умерли и это дало мне шанс вырваться из нашей деревенской глуши и переехать в город, куда меня забрала сестра и где я сумел получить образование.
Этот миф был нужен моему сознанию. Он был словно анестезирующим средством, заглушившим во мне детскую боль брошенности. Я считал себя «удачливым» человеком, а не бедной сироткой, и поэтому не сетовал на свою судьбу. Но это не прошло даром. Мои подавленные эмоции отразились в первом браке. Поскольку я фактически отказался от части своего «я», можно сказать, что я в определенном смысле умер. Во мне было мало внутренней теплоты и нежности по отношению как к себе, так и к окружающим. Подсознательно я пытался найти в жене то, чего мне не хватало. Я страдал от недостатка эмоциональной близости, но она не могла в достаточной мере удовлетворить эту мою потребность — отчасти потому, что сама сильно страдала от психологических ран детства, а отчасти из–за того, что отстранилась от меня, увидев, насколько я Упрям, бесчувствен и вечно всем недоволен. Порочный круг замкнулся. Чем сильнее у меня возникало желание исправиться, тем дальше она от меня отстранялась.
Один из наиболее показательных эпизодов нашей жизни произошел спустя несколько дней после смерти ее отца. Мы были с ней в комнате вдвоем, скорбь продолжала душить ее, и она плакала не переставая. Я утешал ее, как мог, но для этого мне приходилось преодолевать себя. Во мне боролось два чувства. Одна часть моего «я» выражала сочувствие и понимание, а другая словно говорила: «Подумаешь, ничего страшного. Я в детстве потерял родителей и спокойно пережил это. Стоит ли так убиваться?»
Несколько лет спустя, в возрасте тридцати трех лет, я впервые пришел на прием к психотерапевту, правда, не как клиент, а как практикант. На одном из первых сеансов он попросил меня рассказать о своих родителях. Я рассказал, что они скончались, когда я был ребенком, добавив, что все же судьба моя сложилась удачно. Я вырвался из убогой жизни на полузаброшенной ферме, получил образование и полностью изменил образ жизни.
«Расскажите мне, как умерла ваша мама», — попросил меня он, прервав мою автобиографию.
Я начал рассказывать, но почему–то почувствовал, что слова застревают в горле.
«А как ее хоронили?» — продолжал спрашивать он.
Я начал рассказывать, но, к моему большому удивлению, вдруг разрыдался. Я долго плакал и никак не мог остановиться. Взрослый, я вдруг расплакался, как шестилетний ребенок. Психотерапевт участливо посмотрел на меня и сказал: «Хэрвилл, вы только сейчас начали скорбеть о смерти матери».
После того как я перестал подавлять в себе гнев и сопровождающую его ярость, я начал меняться. Смутная тревога постепенно уходила. Я стал более восприимчив к чужой боли. И впервые в своей жизни я почувствовал себя по–настоящему живым человеком. Я стал осознавать свою сущность и свое место в жизни. Все мои чувства нашли свое выражение, и я начал жить в гармонии с окружающим миром.
Идее того, что человек не должен подавлять проявления боли и гнева, противостоят некоторые укрепившиеся в обществе социальные директивы. Родители, как правило, раздражаются, видя своего ревущего ребенка, внушают ему, что это нехорошо, могут даже нашлепать. Подросток, хлопнувший в гневе дверью, подвергается критике, его заставляют извиняться, наказывают. Человек вырастает под гнетом страха проявления собственных эмоций и вместе с ними хоронит в глубине своей души и способность любить. Любовь и гнев — это ведь две стороны одной медали. Они не могут существовать отдельно, как не может существовать добро без зла. А по большому счету и то, и другое является разными проявлениями одной и той же жизненной силы. Мы испытываем радость, потому что наша жизненная энергия имеет канал для открытого проявления. Когда мы злимся, наша жизненная энергия остается внутри нас. Гнев в нас вселяется тогда, когда мы бросаем вызов зову жизни.
Читать дальше








![Шэрон Лоуренс - Джими Хендрикс, Предательство [Интимная история преданной музыкальной легенды]](/books/406514/sheron-lourens-dzhimi-hendriks-predatelstvo-intim-thumb.webp)