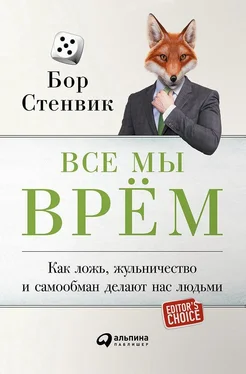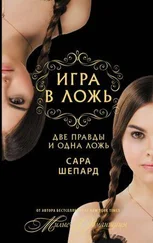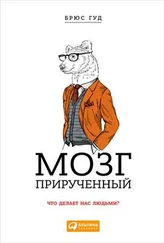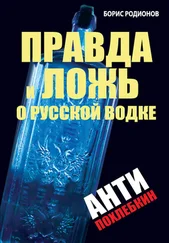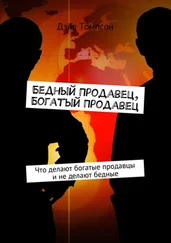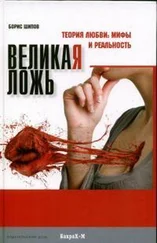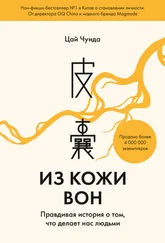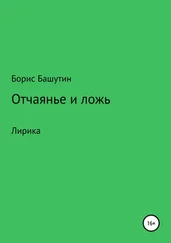Задачей искусства во все времена было создать, в большей или меньшей степени, копию реальности. Мы, люди, всегда старались запечатлеть все, что казалось нам ценным и красивым, начиная с тех самых дней, когда на стенах пещер мы нацарапывали изображение убитых нами животных. В более поздние эпохи мы восхищались пейзажами, а сейчас стали снимать на мобильный своих близких и делать из снимков коллажи. Однако существовала и другая тенденция — манипулировать впечатлением и немного менять его. В любом изображении некоторые черты подчеркиваются, а другие, наоборот, удаляются. Именно об этом и говорит герой «Белого шума»: сфотографировав амбар бесчисленное множество раз, мы перестаем видеть его. Но разве подобные манипуляции не попытка выяснить причину того, почему тот или иной предмет вызывает у нас восхищение? Пожалуй, это отчасти верно: мы стараемся разобраться в собственных мотивах, однако искусство — это большой эксперимент, постоянно подбрасывающий нам новые стимулы. В таком случае вовсе не удивительно, что в число наиболее значимых для искусства понятий входят подлинность и правда и что искусство размывает границы лжи и блефа.
В прежние времена стать объектом изображения, позировать художникам или фотографам считалось честью. Сейчас мы постоянно окружены изображениями: снимки, реклама, кино и даже обои на стенах сливаются в один бесконечный поток изображений. Но такая навязчивость со стороны окружающего мира вовсе не убеждает нас в его существовании. Одна из функций копии — это уверить нас в том, что где-то в мире существует и ее подлинник, вот только когда копий становится бесчисленное множество, у нас возникает ощущение, что все это лишь блеф и надувательство; и чем больше копий мы видим, тем больше жаждем отыскать оригинал.
Возможно, искусство — это та сфера, в которой прошедшие тысячелетия сильнее всего размыли грань между настоящим и поддельным. Во-первых, нам все сложнее дать точные определения фальшивого и подлинного, а во-вторых, мы начали задаваться вопросом, действительно ли подобные определения так уж важны для нас. Важно ли, чтобы предметы искусства создавал художник? Важно ли, чтобы материал, из которого они выполнены, представлял собой именно то, чем кажется? Чтобы за ними скрывались правдивые истории и истинные чувства? Эти вопросы считаются настолько животрепещущими, что им посвящено немало литературных и театральных произведений, которые критики метко назвали «искусством об искусстве». Вот только они кое о чем забывают: подобными же вопросами мы задаемся, когда размышляем о других сферах современной жизни. Неужели наша личность — это лишь определенная роль? Разрушают ли технологии естественную составляющую нашей жизни? Становимся ли мы — члены общества, управляемого средствами массовой информации, — жертвами информационных манипуляций? Окружающий нас мир превращается в нагромождение смыслов, подтекстов и чужих толкований, поэтому вовсе не удивительно, что похожими вопросами задается и искусство.
Принц-самозванец — Высшее общество — Синдром самозванца — Актеры — Джентльменские манеры — Искренность и социальная мобильность — Страдания юного Вертера — Шерлок Холмс и викторианские тайны — Сартр и аутентичность существования — Конформизм богатых предместий — Притворяйся, пока не добьешься! — Маски и амплуа — По версии мозга — Политик-лицемер — Что такое характер? — Мозг как муравейник — Проверка самообмана — Положительные стороны самообмана — «Нейророман» — Я не виноват: это мой мозг! — Самообман или личностный рост? — Порушенная индивидуальность — Опыт обманщика
Тринадцатого января 1748 года в один из портов французской колонии Мартиника в Карибском море зашла спасательная шлюпка с французского торгового судна. Сам корабль захватили англичане, и капитану с экипажем пришлось добираться до берега в шлюпке. Вместе с ними в лодке находился один-единственный пассажир — «юнец лет восемнадцати-девятнадцати, чьи изысканные манеры и утонченные черты лица выдавали аристократическое происхождение». Жители острова вскоре поняли, что перед ними личность необычная. Сам юноша называл себя графом де Тарно, сыном фельдмаршала Франции, однако отношение к нему моряков свидетельствовало о том, что юноша принадлежит к еще более знатному роду. Один из матросов по имени Родез взял на себя роль его личного слуги — неотступно следовал за ним повсюду, хотя и держался на почтительном расстоянии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу