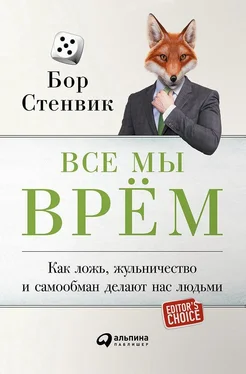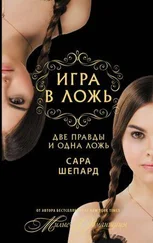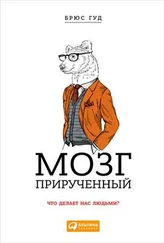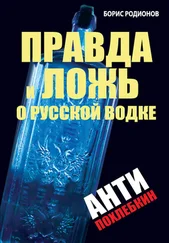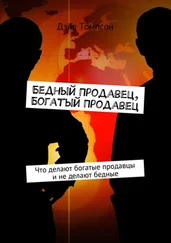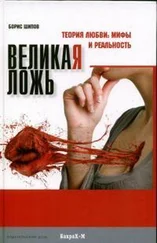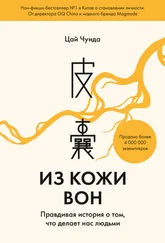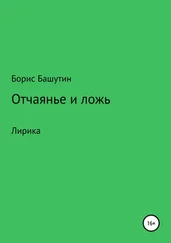Но если они невиновны, то почему же сознались? Ответ очевиден: в безнадежной ситуации, когда ты вынужден выбирать между смертной казнью и пожизненным заключением, мы выбираем меньшее из зол и с радостью сознаемся в чем угодно, если нам пообещают при этом смягчить наказание. Особенно если подозреваемых несколько и им устраивают очную ставку. Одиночная камера и долгие, изнуряющие допросы могут сломить даже самых сильных духом. А если у подозреваемого наркотическая зависимость, или он психически неуравновешен, или и то и другое? Вспомним шведа Томаса Квика, который в свое время считался самым жестоким серийным убийцей в Скандинавии. Квика обвиняли в совершении 30 убийств, причем он сам сознался в каждом из них. Однако никто из свидетелей не видел Квика ни на месте преступления, ни поблизости. Впоследствии Квика оправдали, и теперь многие сомневаются, что он вообще совершил какие-либо из приписываемых ему убийств. В настоящий момент этому делу посвящено множество книг и научных исследований — и, похоже, это лишь начало. Изучая дело Квика, в первую очередь стоит обратить внимание на тот факт, что полицейским удалось получить признание у человека, который на самом деле вообще никогда в жизни не видел своих предполагаемых жертв.
Ну а как же быть с теми, кто сознается в преступлении, потому что сам уверен в собственной вине? В 1980-х годах психолог Элизабет Лофтус провела ряд экспериментов, доказывающих возможность навязать воспоминания. Участникам эксперимента продемонстрировали видеозаписи убийства или автомобильной аварии, а затем психолог опросила каждого из участников, задавая наводящие вопросы. И когда она с уверенностью говорила о «вот той синей машине» или «усатом мужчине», то участники запоминали фразы и впоследствии повторяли их, хотя автомобиль на экране был белым, а мужчина — гладко выбритым. Навязать можно даже детские воспоминания — некоторых участников эксперимента Лофтус удалось убедить в том, что в детстве они летали на воздушном шаре или едва не утонули. Участники эксперимента не просто согласились с этими утверждениями, но и «вспомнили» подробности и рассказали, кто был в тот момент рядом с ними и что именно они чувствовали.
— Чтобы убедить тебя, будто ты пару месяцев назад прикончил человека, нужно постараться, — говорит Асбьёрн Рэшли, — однако и такое возможно. Стайну Инге Юханнесену, обвиняемому в убийстве Колстада, начали сниться сны, в которых он представлял себя убийцей; время от времени ему казалось, что он действительно мог убить Колстада, и порой ему хотелось сознаться.
Когда Асбьёрн Рэшли начал работать в полиции, главным в расследовании убийства было любой ценой получить признательные показания. Если подозреваемый сознавался, дело считалось закрытым, а в столовой всех угощали тортом. У признательных показаний, как и у свидетельских, имеется лишь один недостаток: они бывают лживыми. Подозреваемый, признавший свою вину, может оказаться невиновным, даже когда сам уверен в обратном. Причиной тому — близкий родственник лжи, имя которому — воображение.
Известно, что мошенники отличаются креативностью, и вовсе не удивительно, что эта же черта наблюдается и у лжецов, — достаточно вспомнить незадачливого свидетеля Джо Гэллоуэя, в мельчайших подробностях описавшего свою студенческую жизнь в несуществующем колледже. Подобный вид креативности наблюдается также у людей творческих профессий — они отчасти тоже похожи на лжецов. Профессор в области медицины Чарльз Лим, все свободное время посвящающий игре на саксофоне и изучению истории музыки, провел исследование, доказавшее, что во время музыкальных импровизаций джазисты более склонны к интроспекции и фантазиям. В то же время мозговая активность зон, отвечающих за самоконтроль, у них снижается. У патологических лгунов эти зоны вообще чаще всего повреждены.
Каждый раз, вспоминая о чем-то, мы заново создаем в памяти наше представление об этом, причем с каждым разом представления и ассоциации немного меняются. Чем чаще мы вспоминаем что-то особенно приятное или неприятное, тем сильнее видоизменяются воспоминания. Это означает, что наши представления о важных жизненных событиях искажены сильнее всего, а совершенно незначительные, но запавшие в память с детства подробности остаются неизменными.
Как правило, такое искажение истины никоим образом на нас не влияет, ведь самое важное — это впечатления, а не подробности. Другое дело, когда нас начинают подозревать в убийстве. Как утверждают некоторые философы, люди в основном склонны верить услышанному — просто-напросто потому, что большая часть получаемой нами информации действительно правдива. Если бы мы исходили из обратного, то на проверку фактов ушла бы целая вечность. Поэтому, даже когда людям рассказывают несколько историй и оговаривают, что правдивых из них лишь половина, те все равно верят в большинство из них.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу