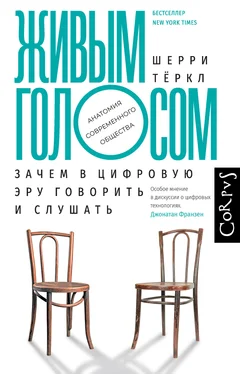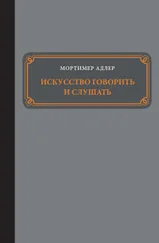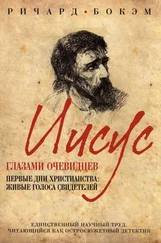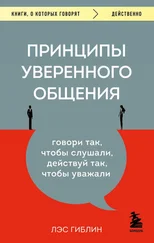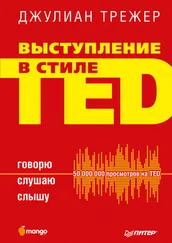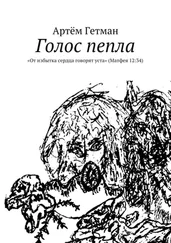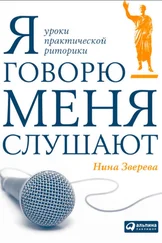Стефани сорок, она агент по недвижимости в штате Род-Айленд. Ее десятилетняя дочь Тара – перфекционистка, всегда и во всем “хорошая девочка”, болезненно воспринимающая даже намек на критику. Недавно Тара начала разговаривать с Siri . Неудивительно, что детям нравится общаться с цифровой помощницей. Степень находчивости в ответах Siri как раз достаточна, чтобы дети чувствовали, что кто-то, возможно, их слушает. И если дети боятся осуждения, то общение с умной помощницей кажется им вполне безопасным. И вот Тара позволяет себе в адрес Siri тот гнев, который не решается выказать родителям или друзьям, ведь с ними она играет роль “идеального ребенка”. Услышав, как дочь орет на Siri , Стефани поясняет: “Она выпускает пар, общаясь с Siri . Она начинает говорить, но потом впадает в ярость”.
Стефани колеблется – “может, это не так уж плохо, и, уж конечно, это более честная беседа”, чем те, которые Тара ведет с реальными людьми. Возможно, стоит хорошенько вникнуть в эту мысль. Безусловно, когда в беседе с телефоном Тара обнаруживает чувства, которые старается утаить от окружающих, это позитивно влияет на девочку. В то же время общение с Siri делает Тару уязвимой. У нее может возникнуть мысль, что ее чувства – нечто такое, что люди не в силах воспринять. В результате она может упорствовать в своем нынешнем убеждении, что притворное совершенство – это все, чего другие люди хотят от нее и что они готовы от нее принять. Вместо того чтобы осознать, что люди способны оценить то, как она на самом деле себя чувствует, Тара приходит к выводу, что лучше вообще не иметь дела с людьми.
Если Тара может “быть собой” только в общении с роботом, возможно, она будет взрослеть в уверенности, что только предмет способен воспринять ее правду. То, чем занимается Тара, – вовсе не “тренировка”, чтобы научиться устанавливать связь с людьми. Для этого Таре нужно запомнить: вы можете завязать отношения с людьми, если доверяете им, совершаете какие-то ошибки и не боитесь откровенных разговоров. Разговоры девочки с неодушевленными объектами уводят ее в другом направлении: в мир, лишенный не только риска, но и заботы друг о друге.
Автоматизированная психотерапия
Мы создаем машины, которые кажутся достаточно человекоподобными, чтобы втянуть нас в беседу, а потом обращаемся с ними, как будто они способны на те же поступки, что и люди. Это подробно разработанная стратегия исследовательской группы в МТИ, цель которой – создать автоматизированного психотерапевта путем “краудсорсинга” коллективного эмоционального интеллекта. Как это работает? Представьте себе, что молодой человек вводит в компьютерную программу короткое (от одного до трех предложений) описание стрессовой ситуации или болезненной эмоции. В ответ программа делит терапевтические задачи между “краудворкерами”. Единственное требование к этим краудворкерам – базовое знание английского языка.
По словам создателей программы, они разработали ее, потому что беседы с психотерапевтами – вещь прекрасная, но слишком уж дорогая, чтобы быть доступной всем нуждающимся. Но в каком смысле эта система предоставляет возможность беседы? Один краудворкер посылает быстрый “эмпатический” ответ. Другой сотрудник проверяет, не искажает ли молодой человек реальность в своем описании проблемы, а потом может попросить того переформулировать свой вопрос. Или заново оценить ситуацию. Эти ответы тоже короткие – не больше четырех предложений. То есть в системе есть люди, но разговаривать с ними вы не можете. Каждому сотруднику попросту дается отдельная деталь головоломки, которой он должен заняться. И действительно, создатели программы надеются, что когда-нибудь весь процесс – уже отлично налаженная машина – будет полностью автоматизирован, и к помощи людей можно будет не прибегать даже по отдельным вопросам.
Автоматизированный психотерапевт, разговоры Тары с Siri , а также психиатр, ожидающий, когда “более разумная” версия Siri придет ему на смену, – эти эпизоды многое говорят о нынешней ситуации в нашей культуре. Во всех этих случаях отсутствует понимание того, что в психотерапии беседа лечит, благодаря отношениям с терапевтом. У терапевта и пациента есть общее – то, что оба они люди. Все мы когда-то были детьми, маленькими и зависимыми. Все мы вырастаем, и нам приходится принимать решения насчет близости, генеративности, работы и смысла жизни. Мы переживаем утраты. Мы думаем о том, что смертны. Мы задаемся вопросом, какое наследие хотим оставить следующему поколению. Когда у нас возникают проблемы с этими вещами – а такого рода проблемы являются естественной частью жизни любого человека, – мы знаем, как обсудить их друг с другом. Но по мере того как усиливается наше стремление говорить об этом с машинами, мы готовимся к тому, что появятся искусственные психотерапевты, а дети будут делиться своими бедами с iPhone [324].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу