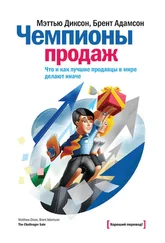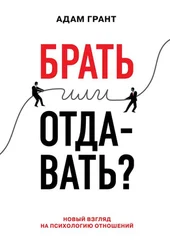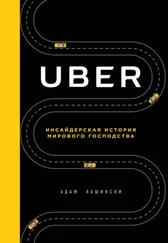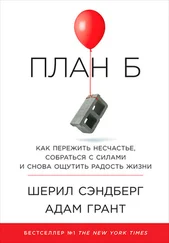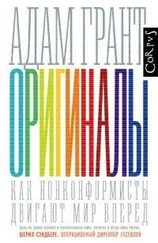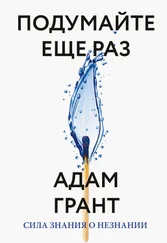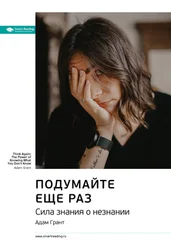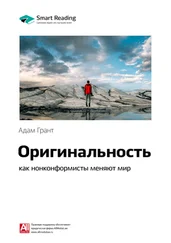Апелляция к характеру, по всей видимости, особенно полезна в те переломные моменты, когда ребенок начинает осознавать себя как личность. Например, в одном исследовании было показано, как высокая оценка характера ребенка побуждала совершать новые моральные поступки детей восьми лет — но не тех, кому было только пять или уже десять лет. Десятилетние дети, скорее всего, уже миновали важнейший этап формирования характера, так что одна похвала уже никак не влияла на их поведение, а пятилетние, напротив, были еще слишком малы, и одна похвала тоже едва ли могла заметно что-то изменить. Похвала характеру накладывает стойкий отпечаток только в тот период, когда происходит формирование личности [34].
Но даже на совсем маленьких детей одобрительные замечания об их характере могут оказывать временное влияние 38. В ряде изобретательных экспериментов, проведенных психологом Кристофером Брайаном, дети в возрасте от трех до шести лет убирали за собой кубики, игрушки и машинки на 22–29 % чаще, если их просили стать помощниками , а не просто помочь. Пускай их характер еще не успел сложиться — им все равно нравилось сознавать себя достойными людьми.
Брайан выяснил, что апелляция к характеру действует и на взрослых 39. В одном эксперименте ему удалось уменьшить число жульнических действий участников вдвое, слегка изменив обращение: вместо обычного призыва “не обманывайте” участников просили “не быть обманщиками”. Когда вас просят не обманывать, вы можете преспокойно продолжать обманывать — и при этом рассматривать себя как вполне честного человека. Но когда вас просят “не быть обманщиком”, то речь уже о том, что вся ваша личность становится аморальной, и тогда обман выглядит куда менее безобидным. Жульничество — это разовое действие, которое обычно оценивают в логике последствий: “Сойдет ли мне это с рук?” А вот если человек ощущает себя обманщиком, то включается логика соответствия: “Что я за человек и кем мне хочется быть?”
С учетом этих данных Брайан призывает нас более продуманно использовать существительные. Например, призыв “не садитесь за руль пьяным” можно переиначить так: “Не становитесь пьяным водителем”. Тот же метод вполне применим в воспитании оригинальности. Когда ребенок что-то нарисовал, не стоит говорить, что его рисунок “удачно придуман”, лучше сказать: “Ты такой выдумщик!” После того как подросток преодолел искушение поддаться стадному инстинкту, можно похвалить его, назвав нонконформистом.
Когда мы смещаем акцент с оценки поведения на оценку характера, человек, которого похвалили, иначе оценивает свой выбор. Вместо того чтобы задаваться вопросом, приведет ли данный тип поведения к желаемым результатам, он просто действует — потому что считает это правильным для себя. Один из людей, спасавших евреев во время Холокоста, произнес трогательные слова: “Это как спасение утопающих. Ты же не спрашиваешь — а какому Богу они молятся? Просто спасаешь, и все”.
Почему родители — не лучший пример для подражания
Мы можем обеспечить детям гораздо большую степень свободы, если объясним им последствия их поступков для других людей и сделаем акцент на то, что правильный моральный выбор демонстрирует хорошие качества характера. Это повышает вероятность того, что дети научатся инстинктивно облекать свои оригинальные импульсы в форму моральных или креативных, а не девиантных действий. Однако по мере взросления ребенка часто выясняется, что он сам задает себе недостаточно высокую планку.
Когда психологи Пенелопа Локвуд и Зива Кунда просили студентов колледжа перечислить цели, которых те надеются достичь в течение ближайших десяти лет, то списки ожидаемых достижений оказались более чем банальными. Другой группе студентов вначале дали прочесть газетную статью об их выдающемся ровеснике, а уже затем перечислить свои цели; участники второй группы поднимали планку существенно выше. Наличие примера для подражания значительно усиливало их мотивацию 40.
Ролевые модели оказывают фундаментальное влияние на то, как подрастающие дети проявляют оригинальность. Когда у нескольких сотен бывших выпускниц Радклиффского женского колледжа, которым в момент исследования было уже за тридцать, спрашивали, кто оказал на их жизнь самое большое влияние, подавляющее большинство назвало родителей и наставников. Еще 17 лет спустя психологи Билл Питерсон и Абигайль Стюарт измеряли готовность этих же женщин изменить мир к лучшему ради будущих поколений. На этот раз менее 1 % опрошенных назвали кого-то из родителей в качестве главного мотиватора в выборе осмысленного жизненного пути. Женщины, проявлявшие большую оригинальность, и полтора десятка лет назад называли в качестве примера не родителей, а наставников: именно их в 14 % случаев упоминали участницы опроса, в наибольшей степени готовые менять мир к лучшему 41.
Читать дальше
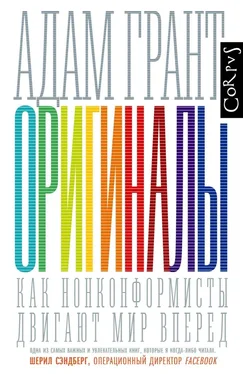
![Андре-Марсель Адамек - [Самая большая подводная лодка в мире]](/books/86302/andre-thumb.webp)