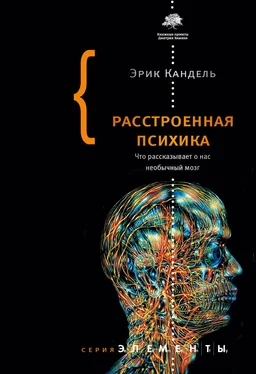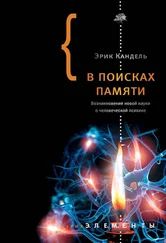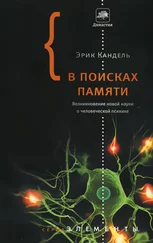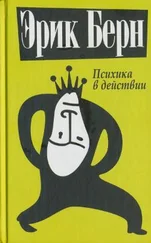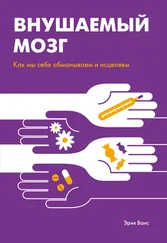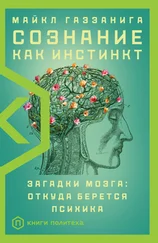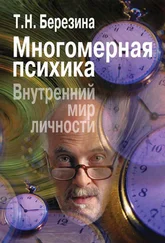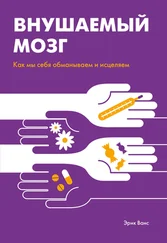Вы стоите на мосту над рельсами, по которым движется вагонетка. Вы видите, что вагонетка неконтролируемо несется к группе из пяти человек. Все пятеро погибнут, если вагонетку не остановить. Рядом с вами на мосту стоит толстый человек. Перегибаясь через перила, он наблюдает за несущейся на людей вагонеткой. Если вы подтолкнете его, он упадет под колеса вагонетки. Поскольку он очень толст, вагонетка остановится и не убьет пять человек. Вы столкнете человека с моста или позволите погибнуть пятерым пешеходам?
Факты в двух сценариях одинаковы: один человек должен погибнуть, чтобы спасти пятерых. Если бы наши решения были совершенно рациональны, мы действовали бы одинаково в обеих ситуациях. Мы столкнули бы человека с моста с той же легкостью, с которой перевели бы стрелку. И все же почти никто не заявляет о своей готовности сбросить человека на рельсы. Оба решения ведут к одинаково жестокому исходу, но большинство людей считает одно из них нравственным, а другое называет убийством.
Грин считает, что сталкивание человека с моста нам кажется неправильным, потому что это уже прямое убийство: непосредственное использование нашего тела для причинения вреда его телу. Он называет это личным решением морального характера. В отличие от этого, направляя вагонетку по другому пути, мы никому не вредим непосредственно. Мы просто переводим стрелку, а причинение этим смерти кажется косвенным. В этом случае мы принимаем обезличенное решение морального характера.
Особенно интересным этот мысленный эксперимент делает то, что наш мозг запрограммирован разделять личные и обезличенные решения морального характера, хотя граница между ними не такая уж и четкая. Неважно, в какой культуре мы живем и какую религию исповедуем: два сценария с вагонеткой запускают разные профили активности в нашем мозге. Когда Грин спрашивал участников исследования, переведут ли они стрелку, у них запускался механизм сознательного принятия решений. Определенный круг областей мозга рассматривал разные альтернативы, отправлял вердикт в префронтальную кору, и люди выбирали наилучший вариант. Их мозг быстро понимал, что лучше убить одного человека, чем пятерых.
Однако когда участников спрашивали, готовы ли они столкнуть человека на рельсы, активировался другой круг областей мозга. Эти области занимаются обработкой эмоций – как собственных, так и чужих. Участники исследования не могли обосновать свои моральные решения, но принимали их без колебаний. Иными словами, они лишь чувствовали , что сталкивать человека с моста неправильно.
Это исследование показывает, каким неожиданным образом наши моральные суждения определяются бессознательными эмоциями. Хотя мы и не можем объяснить свои внутренние импульсы – мы понятия не имеем, почему у нас выскакивает сердце или скручивает желудок, – они все равно на нас воздействуют. В то время как страх и стресс могут приводить к агрессии, боязнь навредить другому человеку может удерживать нас от проявления жестокости.
Исследования других людей с повреждениями мозга, подобными травмам Эллиота и Гейджа, то есть затрагивающими вентромедиальную префронтальную кору, позволяют предположить, что эта часть мозга крайне важна для включения эмоций в процесс принятия решений. Если это действительно так, то можно ожидать, что такие люди будут решать “проблему вагонетки” иначе. Возможно, они сочтут ее чисто арифметической задачей. Пять жизней или одна? Само собой, следует использовать толстого человека, чтобы остановить вагонетку. И действительно, сталкиваясь с такой мысленной дилеммой, люди с поврежденной вентромедиальной префронтальной корой в четыре или пять раз чаще решают “столкнуть парня с моста” в интересах большинства.
Это открытие поддерживает теорию о том, что разные типы морали “закреплены” за разными системами мозга. С одной стороны, у нас есть эмоциональная система, которая встревоженно восклицает: “Нет, не делай этого!” С другой стороны, у нас есть система, которая говорит: “Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому пять жизней в обмен на одну – удачный расклад”. У обычных людей эти моральные установки состязаются друг с другом, но у людей с повреждениями мозга, как у Гейджа, одна моральная система отключена, а вторая невредима.
Биология психопатического поведения
А что насчет психопатов – людей, которые не испытывают затруднений с решением сбросить кого-нибудь с моста? Исследования психопатии показывают, что она представляет собой первым делом эмоциональное расстройство с двумя определяющими характеристиками: антисоциальным поведением и недостатком эмпатии. Первая может приводить к чудовищным преступлениям, а вторая – к неспособности раскаиваться после их совершения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу