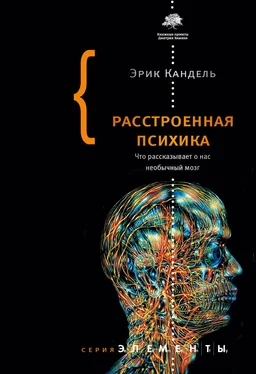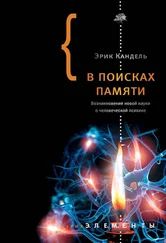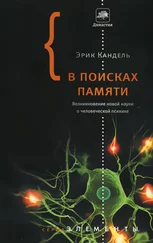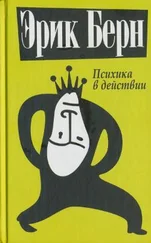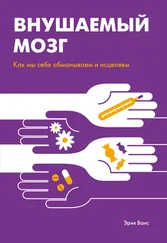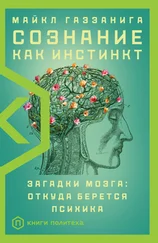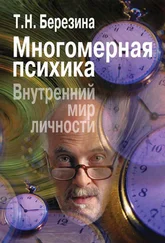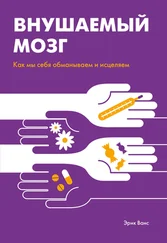Рис. 4.1.Элин Сакс
Пятница, десять часов вечера. Я сижу с двумя одногруппниками в библиотеке Йельской школы права. Они не слишком рады там находиться, ведь в пятницу вечером можно заняться множеством более интересных вещей. Но я настояла на встрече нашей маленькой группы. Нам задали подготовить меморандум. Нам нужно его сделать, нужно его закончить, нужно его составить, нужно… Погодите-ка. Нет, постойте. “Меморандумы – это кара небесная, – объявляю я. – И у них есть цель. Они падут на ваши головы. Вы когда-нибудь кого-нибудь убивали?”
Одногруппники смотрят на меня так, словно их – или меня – окатили ледяной водой. “Шутишь, да?” – спрашивает один. “О чем ты, Элин?” – спрашивает второй.
“О, да все о том же. О рае, об аде. Кто есть что и что есть кто. Эй! – восклицаю я, вскакивая со стула. – Полезли на крышу!”
Я бросаюсь к ближайшему большому окну, вылезаю через него и оказываюсь на крыше. Чуть погодя за мной следуют невольные соучастники моего преступления. “Вот настоящая я! – заявляю я, размахивая руками над головой. – Прочь, во Флориду, к лимонному дереву! Прочь, во Флориду, к солнечным кустам! Где делают лимоны. Где обитают демоны. Да что с вами такое, ребята?”
“Ты меня пугаешь”, – брякает один. А через несколько неловких мгновений второй заявляет: “Я пошел внутрь”. Они напуганы. Привидение, что ли, увидели? И – представьте! – они лезут обратно в окно.
“Почему вы уходите?” – спрашиваю. Но они уже внутри, а я осталась одна. Несколько минут спустя я с некоторой неохотой тоже пролезаю в окно.
Когда мы снова усаживаемся за стол, я аккуратно сооружаю башенку из учебников и перекладываю листки со своими записями. Затем перекладываю их снова. Я вижу проблему, но не вижу решения. Все это очень тревожит. “Не знаю, как у вас, а у меня слова по страницам прыгают, – говорю я. – Кажется, кто-то проник в мои копии дел. Нужно связать дела. В связки я не верю. Но они способны удерживать части тела вместе”. Я поднимаю глаза и вижу, что одногруппники оторопело пялятся на меня. “Мне… мне нужно идти”, – говорит один. “И мне тоже”, – подхватывает второй. Они нервно собирают вещи и поспешно уходят с туманными обещаниями связаться со мной позже и поработать над меморандумом в другой раз.
Я прячусь между стеллажей и сижу там на полу до глубокой ночи, бормоча себе под нос. Становится тихо. Выключают свет. Я боюсь, что меня запрут в библиотеке, и наконец бегу к выходу, заныривая в библиотечные тени, чтобы меня не заметили охранники. На улице темно. Идти в общежитие неприятно. Придя, я никак не могу заснуть. В голове слишком шумно. Слишком много лимонов, и меморандумов, и массовых убийств, за которые я буду в ответе. Я должна работать. Я не могу работать. Я не могу думать [54] В оригинальном изложении, на английском, можно заметить необычные ассоциативные связи (помимо перескока с прошивки документов на анатомические связки): слова, занимающие ум героини, схожи по звучанию. Например, law memos, lemons, demons (меморандумы, лимоны, демоны). Это вариант типичного для шизофрении соскальзывания на побочные (не смысловые) ассоциации.
39 .
Как мы узнали из главы 3, основатель современной научной психиатрии Эмиль Крепелин разделил основные психические заболевания на расстройства настроения и расстройства мышления. Он смог провести черту между ними, потому что в своих исследованиях психических расстройств он полагался не только на тонкие клинические наблюдения, но и на знания, почерпнутые им в лаборатории пионера экспериментальной психологии Вильгельма Вундта. На протяжении всей своей профессиональной жизни Крепелин старался выстраивать концепции психиатрии на самых крепких из психологических исследований.
Крепелин назвал первичное расстройство мышления ранней деменцией, или слабоумием молодых, потому что оно начинается в более раннем возрасте, чем деменция Альцгеймера. Почти сразу швейцарский психиатр Ойген Блойлер раскритиковал этот термин. Блойлер полагал, что деменция – лишь один из компонентов болезни. Более того, у некоторых его пациентов болезнь развивалась в более позднем возрасте. Другие, заболев, нормально функционировали многие годы – работали и вели семейную жизнь. По этим причинам Блойлер назвал болезнь шизофрениями . Шизофрения [55] Шизофрения в переводе с древнегреческого означает “расщепление ума”.
представлялась ему расщеплением психики – чувства оказывались оторванными от мыслительного процесса и мотивации, – и он использовал множественное число, чтобы указать на неоднородность расстройств, входящих в одну категорию. Идеи Блойлера заложили основы нашего представления о болезни, а его определение используется по сей день.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу