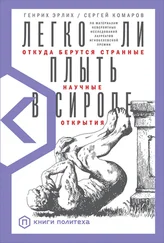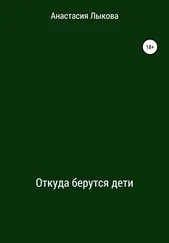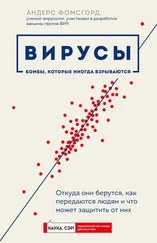Мишель, по крайней мере, верно оценивает происходящее. Накопители понимают, каких усилий стоит изменить ситуацию. Беда, однако, в том, что большинство из них совершенно этого не хотят. Они интуитивно понимают, почему собирают вещи, чему служит это поведение. Не забывайте, чувства, питающие компульсивное накопительство, не являются эгодистонными или чуждыми подлинному самоощущению и личности человека, в отличие от больного ОКР. В сущности, они его характеризуют. Вследствие этого «большинство накопителей даже не обращаются к врачу, пока супруг не заговорит о разводе, кто-то из домочадцев не выставит ультиматум или домовладелец не пригрозит выселением», объясняет психотерапевт Терренс Шульман, основатель Центра Шульмана по лечению компульсивного воровства, транжирства и накопительства в Мичигане, пациентам, которые все-таки приходят к нему лечиться: «Дело не в вещах как таковых. Дело в эмоциях, которые за ними стоят. Даже попытка подступиться к решению проблемы требует такой изнурительной борьбы, что у людей руки опускаются, но, потеряв все из-за наводнения или пожара, они испытывают громадное облегчение».
Рецепта избавления от накопительства не существует, однако многочисленные исследования подтвердили эффективность разновидности когнитивно-поведенческой терапии, по крайней мере, частичную и для некоторых накопителей. Когнитивный элемент терапии заключается в том, что клиенту или пациенту объясняют, что такое патологическое накопительство, и учат его постановке целей — сначала скромных, например, к следующему сеансу избавиться от одного предмета или воздержаться от предполагаемой покупки, — а также принципам организации и принятия решений. Этот подход был воплощен в программе «Погребенные в сокровищах», названной так же, как эпохальная книга Фроста и Стекити, изданная в 2007 г. В течение тринадцати еженедельных двухчасовых сеансов участники программы, возглавляемые обученным куратором (необязательно врачом; руководство можно бесплатно скачать в интернете), размышляют, почему хранят тот или иной ненужный предмет (который приносят с собой), обсуждают, что мешает им избавиться от мусора, и другие вопросы. Они нарабатывают навык сортировки вещей, обычно начиная с малого, к примеру, с содержимого кухонного стола. (Это помогает обрести веру в себя, а возможность снова пользоваться собственной кухней, как ничто другое, свидетельствует о прогрессе). Затем учатся бороться с желанием приобретать вещи.
Этот метод испытывается на практике примерно с 2007 г., и результаты настолько обнадеживающие, что ученые приступили к полноценному апробированию. Так, в ходе исследования, проведенного в 2013 г. под руководством Рэнди Фроста и Гейл Стекити, сорок шесть человек, страдающих патологическим накопительством, были случайным образом разбиты на две группы — участников терапевтических сеансов и кандидатов [49] Исследователи часто используют лиц из списков ожидающих в качестве контрольной группы, поскольку считается, что люди, стремящиеся попасть на семинар «Погребенные в сокровищах», имеют такие же, как у его участников, мотивацию, тяжесть состояния и другие характеристики.
. Лечебное вмешательство включало двадцать пять или более часовых терапевтических сеансов, а также посещение домов пациентов в течение 9–12 месяцев. В ходе терапии, представляющей собой нечто среднее между когнитивной и поведенческой, психологи прежде всего помогали больному понять свои мотивы — многие больные почти или совершенно не представляют причин своего поведения. Врач стремился сформировать у пациента другое, более здоровое отношение к вещам, к самому себе и своим воспоминаниям, заставляя усомниться в том, что расставание с бесполезным предметом — такой уж гнусный поступок и что отдать в дар вещи покойного супруга равносильно предательству любви. Через три месяца 43% пациентов, получавших лечение, продемонстрировали «значительное» или «очень значительное» улучшение по результатам оценки состояния их домов врачами-клиницистами, тогда как из списка ожидания положительной динамики не было ни у кого. (Патологическое накопительство редко проходит само.) В момент проверки кандидаты получали предложение пройти когнитивно-поведенческую терапию. Как сообщили исследователи в журнале Depression and Anxiety , по прошествии следующих двадцати шести недель лечения 71% накопителей добились прогресса, причем у большинства из них положительный эффект оказался стабильным: спустя год значительное или очень значительное улучшение наблюдалось у 62% пациентов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
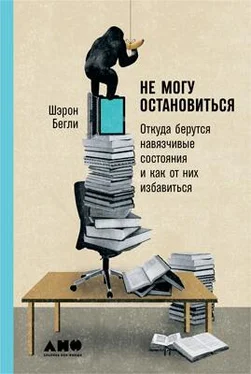


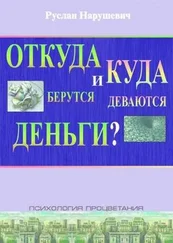
![Андерс Фомсгорд - Вирусы. Откуда они берутся, как передаются людям и что может защитить от них [litres]](/books/384529/anders-fomsgord-virusy-otkuda-oni-berutsya-kak-pe-thumb.webp)