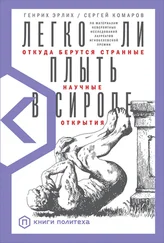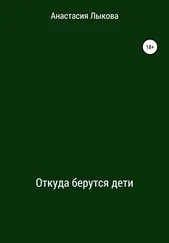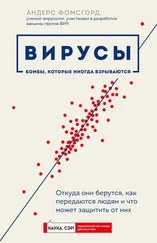Безумие или эксцентричность?
К концу XIX в. во врачебной среде сформировалось убеждение, что компульсии не являются разновидностью безумия, вопреки представлению современников. Как утверждал английский психиатр Генри Модсли в учебнике 1879 г. «Патология рассудка» (The Pathology of Mind), они возникают, когда потребность «совершить некое бессмысленное и абсурдное действие… овладевает воображением и не отпускает его», вынуждая жертву «повторять действие снова и снова, поскольку лишь это позволяет достичь спокойствия».
В 1894 г. Дэниел Хэк Тьюк поднял дискуссию о компульсиях статьей в неврологическом журнале Brain . «Я обращаюсь к случаям болезни, когда человека нельзя счесть безумным, хотя психическое нарушение может иметь столь же тяжкие последствия, как и при подлинном сумасшествии», — писал он. Симптомы компульсии многообразны и могут включать «определенные мысли или слова, всплывающие с болезненной частотой и живостью». Подобные мысленные компульсии могут сопровождаться физическими, как, например, у «людей, неизменно трогающих определенные предметы, проходя мимо них во время привычной прогулки, противоположностью чему является страх прикосновения к определенным предметам ( Délire du toucher )». Тьюк также выделял «арифмоманию, или болезненное стремление считать ни с того ни с сего или выполнять бесконечные вычисления». Он сетовал на тогдашнее повальное увлечение «удостоверяющих вменяемость психиатров» изобретать название для каждой компульсии, досадуя, что это «отвлекает внимание от основополагающих характеристик, общих для всех [ее типов]», среди которых «автоматизм, всеподавляющая и повторяющаяся склонность быть захваченным определенной идеей, совершать определенные действия… при осознании совершенной бесполезности и абсурдности» компульсивных мыслей или поступков.
Это было первое признание того факта, что все компульсии, сколь бы разные формы они ни принимали — будь то необходимость возвращаться и проверять, не переехал ли ты пешехода, тренировки на велотренажере до упаду или лихорадочное листание страниц в смартфоне, — являются проявлением одного внутреннего состояния — громадной тревоги, которую можно облегчить (пусть только временно) лишь выполнением компульсивных действий. Жертва компульсии «совершенно не способна ей сопротивляться», по словам Тьюка. Причиной же является «неадекватная работа мозга, сильная эмоциональная взвинченность» — главные составляющие тревожности, эмоции, свойственной людям и в самом здравом уме. «Легкая степень» тревоги, провоцирующая компульсии, «не является редкостью у психически совершенно здоровых людей». Лаборант в психиатрической лечебнице признался Тьюку, что «сделав последнее за вечер дело — заперев дверь, — и не имея никаких сомнений, что она заперта, он возвращается раз, а то и два, чтобы в этом удостовериться». «Я знал людей, — продолжал врач, — которые вскрывали конверт, куда положили чек, и с величайшим вниманием проверяли дату и подпись, желая убедиться, что все верно». Когда наука делала первые шаги к изучению компульсий, специалисты уже признавали, что они могут принимать столь мягкие формы, что было бы абсурдом считать их безумием — или, выражаясь современным языком, психическим заболеванием.
Английский психиатр сэр Джордж Генри Сэвидж (1842–1921) соглашался с тем, что компульсии не являются проявлением умопомешательства. Он называл их «очень распространенными» и предполагал, что «практически каждый имеет те или иные», добавляя: «У меня возникает особое чувство, полагаю, свойственное многим, когда я иду по тротуару. Я испытываю стремление не наступать на трещины и в то же время склонность… касаться тростью стального ограждения, идя по улице… Лишь немногие подобные случаи дают постоянных обитателей домов умалишенных».
Это мнение, однако, разделяли не все. Английский невролог Джон Хьюлингс Джексон (1835–1911), основатель журнала Brain , называл компульсии, которые Тьюк и Сэвидж пытались избавить от клейма безумия, «бредовыми иллюзиями». Соответственно, разгорелся спор, продолжающийся поныне: является ли компульсия проявлением психического заболевания или всего лишь заостренной формой универсального, в сущности, поведения.
Задумаемся о причинах самых обычных действий. Почему мы протираем кухонные столы и застилаем постели, покупаем запас продуктов на несколько дней, да просто прилежно учимся и держимся за рабочее место? Нет ли в них оттенка одолевающих нас страхов — микробов или беспорядка, голода или провала? Человеческое поведение представляет собой обширнейший спектр вариантов, и, хотя крайние проявления могут внешне отличаться от средних, они относятся к единому множеству, а не выпадают из него, как у жертв психотического расстройства, при котором мозг входит в режим функционирования, резко отличающийся от нормального. Однако компульсивная потребность отмывать руки после туалета, проверять, не пришло ли за последнюю минуту судьбоносное письмо, или компульсии, провоцируемые любыми другими тревогами, время от времени посещают любого из нас. Как писал Тьюк сто лет назад, «разница лишь в степени, и… самое сложное — понять, в какой момент грань оказывается пересечена».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
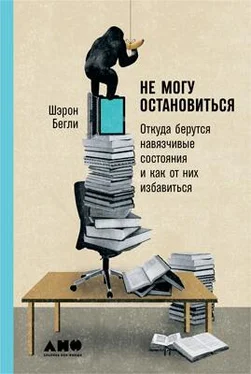


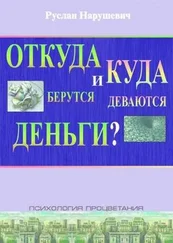
![Андерс Фомсгорд - Вирусы. Откуда они берутся, как передаются людям и что может защитить от них [litres]](/books/384529/anders-fomsgord-virusy-otkuda-oni-berutsya-kak-pe-thumb.webp)