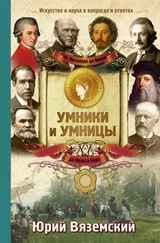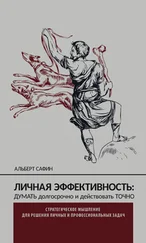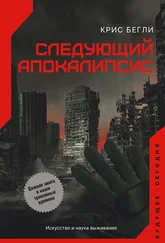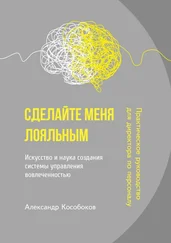Если ничто не определено, значит, циферблаты с двумя и тремя значениями имеют огромные недостатки. «Да» и «нет» выражают определенность. Их необходимо убрать. Единственное значение, которое останется, — «может быть», а ведь именно его люди интуитивно стараются избегать.
Конечно, циферблат с одним значением бесполезен. Это лев? Может быть. Найдут ли полоний в останках Ясира Арафата? Может быть. Человек в загадочном комплексе сооружений — Усама бен Ладен? Может быть. Понятно, что «может быть» нужно разделить на степени вероятности. Один из способов это сделать — использовать неопределенные слова вроде «вероятно» или «маловероятно», но, как мы уже видели, это вызывает опасную двусмысленность, поэтому ученые предпочитают цифры. И градация цифр должна быть настолько тонкой, насколько это в силах прогнозистов. Они могут означать как 10, 20, 30 %, так и 10, 15, 20 % или 10, 11, 12 %… Чем тоньше градация, тем лучше, если она охватывает реальные различия. То есть если предсказывают, что что-то случится с 11 %-ной вероятностью, это действительно происходит на 1 % реже, чем события с 12 %-ной вероятностью, и на 1 % чаще, чем события с 10 %-ной вероятностью. Такой сложный ментальный циферблат — основа вероятностного мышления.
Роберт Рубин — вероятностный мыслитель. Будучи студентом в Гарварде, он посетил лекцию, на которой профессор философии доказывал, что не существует доказуемой определенности, и «его слова совпали со всем, что я и сам думал», сказал он мне. Это стало аксиомой, которой Роберт руководствовался все двадцать шесть лет работы в банке Goldman Sachs , а затем советником президента Билла Клинтона и министром финансов. Неопределенность включена и в название его автобиографии «В неопределенном мире». Отвергая определенность, Рубин воспринимает всё как степени вероятности — и в этом ему нужна максимальная точность. «Когда я встретился с ним впервые, он спросил у меня, примет ли Конгресс законопроект, на что я ответил: „Абсолютно точно“, — рассказал журналисту Джейкобу Вейсбергу молодой референт министерства финансов. — Ему это не понравилось. Теперь я говорю, что вероятность 60 %, и мы еще можем поспорить, на самом деле она 60 % или все-таки 59 %» [112].
Пока он служил в администрации Клинтона — а это была золотая эра взлета акций и рубиномики, — Рубина просто возносили до небес. Как только разразился кризис 2008 года — начали критиковать так же страстно, как до этого хвалили; впрочем, судить, кто он на самом деле — герой, злодей или что-то посередине, — не в моей компетенции. Что мне интересно — так это то, как много людей отреагировало на вероятностное мышление Рубина, изложенное в очерке, опубликованном New York Times в 1998 году. Его сочли поразительным и вызывающе парадоксальным. Профессионалы пришпиливали мысли Рубина относительно мышления на стены своих офисов, рядом с вдохновляющими посланиями и фотографиями детей. «Люди в самых разных обстоятельствах говорили мне, что мой очерк оказал на них большое влияние», — вспоминал он в 2003 году. Такая реакция озадачила Рубина. Сам он думал, что не сообщил ничего удивляющего. Но когда расширил эту тему в своей автобиографии, реакция оказалась такой же. Более десяти лет спустя «после моих выступлений на различных конференциях ко мне все еще подходят люди и говорят: „У меня есть экземпляр вашей книги, вы не могли бы ее подписать?“ или „Меня это действительно заинтересовало и стало иметь значение для меня именно из-за обсуждения вероятностей“, — рассказывает Рубин. — Не могу понять, почему то, что кажется очевидным мне, для других людей оказывается откровением» [113].
Вероятностное мышление и ментальные циферблаты с двумя и тремя значениями, которые для нас более естественны, — это как рыбы и птицы: абсолютно разные существа. Каждое основывается на разном представлении о реальности и о том, как в ней ориентироваться. И тот и другой циферблат могут казаться невероятно странными тем, кто привык мыслить по-другому.
Неуверенные суперпрогнозисты
Роберту Рубину не понадобилось бы «стучать по столу», чтобы объяснить суперпрогнозистам: 80 % вероятности того, что что-то произойдет, означает также 20 % вероятности, что что-то не произойдет. Отчасти благодаря отличным математическим способностям суперпрогнозисты, как и ученые-естественники и математики, тяготеют к вероятностному мышлению.
Осознание непреодолимой неопределенности — сущность вероятностного мышления, но ее сложно измерить. Чтобы сделать это, мы воспользовались разграничением, которое предложили философы, между «эпистемической» и «алеаторной» неопределенностью. Эпистемическая неопределенность — что-то, что мы не знаем, но что познаваемо, по крайней мере в теории. Если надо предсказать, как будет работать загадочная машина, инженеры могут, в теории, вскрыть ее и выяснить это. Одержание верха над механизмами — прототип предсказания реальности, похожей на часы. Алеаторная неопределенность — это не просто что-то, что вы не знаете; это то, что непознаваемо в принципе. Неважно, как сильно вы хотите знать, будет ли идти дождь в Филадельфии через год, неважно, с каким количеством великих метеорологов вы посоветуетесь, — спрогнозировать погоду на год вперед вам не удастся. Тут вы сталкиваетесь с неразрешимой проблемой, похожей на облако неопределенностью, которую невозможно даже в теории устранить. Алеаторная неопределенность всегда обеспечивает присутствие сюрпризов в нашей жизни, как бы тщательно мы все ни планировали. Суперпрогнозисты осознают эту глубокую истину лучше, чем остальные. Когда они чувствуют, что в вопросе содержится непреодолимая неопределенность, как, например, в тех, что касаются курсов валют, они проявляют неизменную осторожность, удерживая свои изначальные оценки внутри пределов теневой зоны «может быть» — между 35 и 65 %, и крайне неохотно выходят за ее пределы. Они знают, что чем «облачнее» видимость, тем сложнее в ней обыграть в дартс того самого шимпанзе [114].
Читать дальше