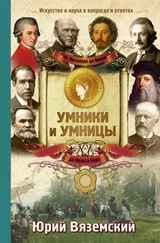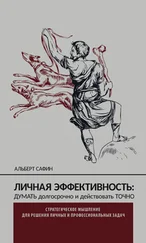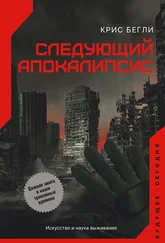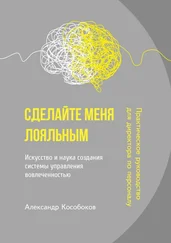Статус-кво «кто кого»
В течение нескольких месяцев перед президентскими выборами 2012 года в прогнозах Нейта Сильвера постоянно утверждалось, что Барак Обама обойдет Митта Ромни. Даже когда опросы показали, что Ромни дышит Обаме в спину, и в прессе начали появляться фразы «пятьдесят на пятьдесят» или «слишком близко, чтобы что-то предсказывать», в прогнозах Сильвера шансы Обамы против Ромни никогда не опускались ниже 61 %. Республиканцы ругали Сильвера и обвиняли его в предвзятости. Демократы же защищали его постоянство, хвалили за проницательность и забросали похвалами, когда Обама выиграл. Но в марте 2014 года, когда Сильвер начал предсказывать победу республиканцев в ноябрьских выборах в Сенат, многие демократы изменили к нему свое отношение.
Некоторые должностные лица даже распространили старые, несбывшиеся прогнозы Сильвера [226]. Тот же прогнозист, тот же послужной список — но, когда его прогнозы перестали отвечать линии партии, из пророков он был разжалован в недотепы. Это крайнее проявление проблемы, которую я отставил в сторону после упоминания в главе 1, когда написал, что исключительной целью прогнозирования должна быть точность и именно на этом будет сосредоточена данная книга. В реальности точность зачастую — лишь одна из многих целей. Иногда она вообще не имеет значения.
Неприятную правду обычно прячут, но иногда маска падает — как это случилось, когда аналитик банка Banco Santander Brasil SA предупредила богатых клиентов, что биржевой рынок и валюта Бразилии, скорее всего, потерпят убытки, если кандидат левого крыла продолжит восхождение к власти. Кандидат и ее партия пришли в ярость и потребовали увольнения аналитика. Что и было немедленно сделано, потому что в Бразилии банку не стоит ссориться с возможным будущим президентом. Был ли точен прогноз аналитика — не имело никакого значения [227].
Как и многие другие жесткие деятели до и после него, Владимир Ленин настаивал, что политика в общем и целом есть не что иное, как борьба за власть или, как он это сформулировал, решение вопроса «кто кого». Различные аргументы и свидетельства всего лишь украшения, а на самом деле в бесконечной борьбе имеет значение, только если ты оказываешься «кто», а не «кого». Из этого следует, что цель прогнозирования не в том, чтобы видеть, что произойдет. Она заключается в том, чтобы содействовать интересам прогнозиста и его племени. Иногда точные прогнозы этому способствуют, и тогда точность приветствуется, но тут же отбрасывается в сторону, как только того требует борьба за власть. Я уже упоминал о предупреждении Джонатана Шелла, которое он сделал в 1982 году: что апокалипсис непременно произойдет в ближайшем будущем, «если мы не избавимся от ядерных арсеналов». Этот прогноз был очевидно неточным, но Шелл хотел, чтобы его читатели присоединились к движению разоружения, — и у него получилось. Поэтому, хоть его прогноз и не был точным, был ли он провальным? Ленин сказал бы, что Шелл добился именно того результата, на который рассчитывал.
Дик Моррис — республиканский исследователь общественного мнения и бывший советник президента Билла Клинтона — проиллюстрировал эту ситуацию через несколько дней после президентских выборов 2012 года. Незадолго до голосования Моррис предсказал Ромни внушительную победу — и после выборов его за это стали высмеивать, поэтому он счел нужным оправдаться. «Кампания Ромни разваливалась на куски, люди теряли оптимизм — поэтому я счел нужным выступить и сказать то, что сказал», — заявил Моррис [228]. Конечно, Моррис мог соврать о том, что соврал до выборов, но сам факт, что он посчитал эту линию защиты убедительной, многое говорит о мире «кто кого», в котором он действует. Не нужно быть марксистом-ленинистом, чтобы признать, что Ленин был прав. Имеют значение свои интересы и интересы племени. Если прогнозирование может послужить их продвижению — так и будет. С данного ракурса нет никакой нужды в реформировании и улучшении прогнозирования, потому что оно и так отлично служит своему основному предназначению. Однако прежде чем сдаться, давайте вспомним, что Ленин был немного догматичен. Люди хотят власти, это так. Но они ценят и другие вещи, которые могут оказаться важнее.
Перемены
Столетие назад, когда врачи медленно становились профессионалами, а медицина — наукой, у бостонского врача по имени Эрнест Эмори Кодман появилась идея, похожая по духу на ведение счета прогнозистами. Он называл ее «система конечного результата». Больницы должны были регистрировать, какие болезни имелись у поступавших к ним пациентов, как их лечили и — самое важное — каким был конечный результат в каждом случае. Эти записи следовало собирать в статистические данные и публиковать, чтобы, основываясь на них, пациенты сами могли выбирать больницы. А те откликались бы на давление потребителей, увольняя одних врачей и повышая в должности других, следуя тому же принципу. Состояние медицины такой подход только бы улучшил, ко всеобщей выгоде. «План Кодмана не учитывал ни репутацию врачей, ни их социальный статус, ни манеру обращения с пациентами, ни технические навыки, — отметил историк Айра Рутков. — Все, что имело значение, — клинические последствия врачебных усилий» [229]. В наши дни больницы делают все, чего требовал Кодман, и многое другое, и врачи изумились бы, если бы кто-нибудь предложил им прекратить это делать. Но когда эта идея прозвучала впервые, медицинское сообщество отнеслось к ней совсем иначе.
Читать дальше