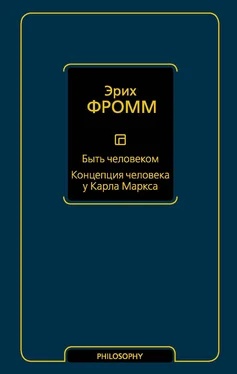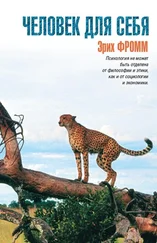Однако развитие человека осложняется наличием еще одного фактора. Если государство и общество должны служить реализации определенных духовных ценностей, существует опасность того, что высшая власть велит человеку – и принудит его – думать и действовать определенным образом. Внедрение в общественную жизнь некоторых подлинных ценностей может приводить к формированию авторитаризма. В Средние века духовным авторитетом была католическая церковь; протестантизм сначала боролся с ее властью, обещая бо́льшую независимость индивиду, но пришел к тому, что сделал государство безоговорочным и деспотичным повелителем души и тела человека. Восстание против монархической власти происходило под знаменем национального государства, и некоторое время оно обещало стать представителем свободных граждан, однако вскоре посвятило себя защите материальных интересов тех, кто владел капиталом и мог, таким образом, эксплуатировать труд большинства населения. Некоторые общественные классы протестовали против такого нового авторитаризма и настаивали на свободе индивида от вмешательства светских властей. Этот постулат либерализма, направленный на защиту «свободы от», с другой стороны, вел к требованию того, чтобы государство и общество не пытались реализовать «свободу ради». Иначе говоря, либерализм должен был настаивать не только на отделении от государства и церкви, но и отрицать, что функция государства – помогать реализации определенных духовных и моральных ценностей; таковые считались находящимися исключительно в ведении индивида.
Социализм в своей марксистской и иных формах вернулся к идее «хорошего общества» как обязательного условия реализации духовных потребностей человека. Он был антиавторитарным как в отношении церкви, так и в отношении государства, поскольку ставил целью постепенное исчезновение государства и создание общества, состоящего из добровольно объединившихся индивидов. Его целью было преобразование общества таким образом, чтобы стало возможным подлинное возвращение человека к себе, без участия тех авторитарных сил, которые ограничивали и обедняли человеческий разум.
Таким образом, марксизм и другие формы социализма являются наследниками пророческого мессианства, христианского милленаристского сектантства, томизма XIII века, ренессансного утопизма и Просвещения XVIII века [216]. Социализм Маркса является синтезом пророчески-христианской идеи об обществе как о месте духовной реализации с идеей индивидуальной свободы. По этой причине он противостоит церкви, поскольку та ограничивает права разума, и либерализму, поскольку тот рассматривает устройство общества отдельно от моральных ценностей. И он противостоит сталинизму и «хрущевизму» из-за их авторитаризма и пренебрежительного отношения к гуманистическим ценностям.
Социализм – это свобода человеческой самореализации, возвращение индивида к себе как полноценному человеческому существу. «Он есть действительное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он – решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение» [217], [218]. Для Маркса социализм означал общественное устройство, которое позволяет человеку вернуться к себе, достичь единства между сущностью и существованием, преодолеть разделение и антагонизм между субъектом и объектом, между очеловечиванием и природой; он означал мир, в котором человек не был бы чужим среди чужих, а ощущал этот мир своим домом.
7
Целостность мысли Маркса
Наше представление о Марксовых концепциях человеческой природы, отчуждения, деятельности и т. д. было бы совершенно односторонним и даже ошибочным, если бы правы оказались те, кто утверждает, будто идеи «молодого Маркса», содержащиеся в «Экономическо-философских рукописях 1844 года», были отвергнуты старшим, «зрелым Марксом» как пережитки идеалистического прошлого, следы влияния Гегеля. Если бы это было так, можно было бы предпочесть «молодого» Маркса «зрелому» и пожелать связать социализм с первым, а не со вторым. К счастью, нет никакой надобности рассекать Маркса надвое. Фактически основополагающие взгляды на человека, высказанные Марксом в «Экономическо-философских рукописях 1844 года», не претерпели глубоких изменений в «Капитале», и Маркс не отказался от своих ранних воззрений, как то утверждают вышеупомянутые критики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу