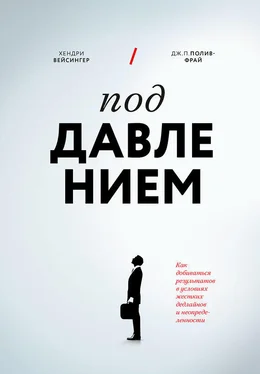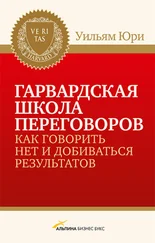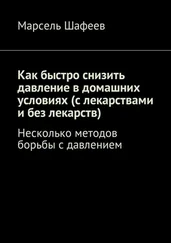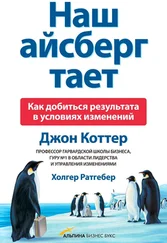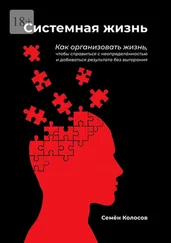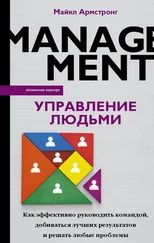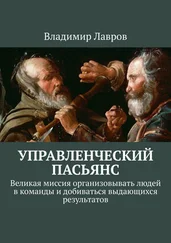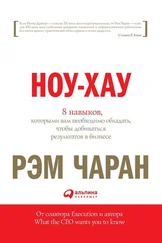Термин «размеры рабочей памяти» был впервые предложен специалистами по когнитивной психологии Джорджем Миллером и Карлом Прибрамом и в 1960-х годах использовался в контексте теорий, которые уподобляли наш мозг компьютеру. Ученые исходили из того, что он обладает фиксированным объемом пространства для хранения ограниченных массивов информации. Именно поэтому мы иногда сравниваем нашу рабочую память с «ментальным блокнотом», который помогает работать с информацией, хранящейся в нашем сознании. Понятно, что те люди, у которых размеры рабочей памяти больше, имеют преимущество.
Когда рабочая память подвергается внешнему влиянию, это отражается на ваших действиях. Чаще всего это происходит тогда, когда стоящая перед вами задача требует что-то тщательно обдумать (решить математические задачи, написать сложное сочинение, запомнить номера телефонов или изучить данные, которые вы должны сообщить клиенту). Опыты, проведенные Прибрамом на животных, а также результаты компьютерной томографии мозга позволяют сделать вывод, что в основном функции рабочей памяти сосредоточены в префронтальной коре головного мозга.
Процедурная память сосредоточивается в основном в мозжечке и отвечает за моторные навыки, необходимые для того, чтобы совершать привычные и быстрые действия. Они имели жизненно важное значение для выживания нашего доисторического предка.
Эти два вида памяти тесно взаимодействуют между собой при выполнении сложных задач, например во время игры на музыкальном инструменте. Причем первые навыки таких действий поначалу хранятся в рабочей памяти. Однако при повторении одних и тех же действий и по мере превращения их в привычку память о них перемещается в мозжечок. Теперь он становится центром вашей процедурной памяти: вы действуете уже подсознательно, автоматически. Глядя, как виртуозно музыканты исполняют сложные произведения, знайте – они используют свою процедурную память. Их действия приобретают автоматизм. Но они становятся привычными только после того, как их рабочая память провела их через первые этапы освоения музыкальных навыков. Другой пример: именно рабочая память позволила вам научиться водить автомобиль. Начиная учиться водить, вы мысленно восстанавливали в голове свои пошаговые действия перед выездом на дорогу. Теперь вы делаете то же самое не задумываясь, автоматически.
Обе системы памяти влияют на возникновение психологических срывов. Вот один из распространенных сценариев: вы говорите клиенту о важных идеях. Та сложная информация, которую вы должны донести до него, находится у вас в рабочей памяти, и вы уже готовитесь извлечь ее оттуда. Однако неожиданно вы начинаете обращать внимание на то, слушает ли вас клиент, соглашается ли с тем, что вы ему говорите. И через несколько секунд в голове становится пусто: вы забыли то, что недавно знали наизусть.
Когда вы задумываетесь о реакции клиента, эти мысли занимают место в том самом «блокноте», в котором вы храните важную информацию. Конкурирующие между собой мысли очищают то пространство в вашем «блокноте», которое было занято презентацией. Это пространство исчезло, а вместе с ним и информация. В результате вы не можете восстановить в памяти то, что еще вчера знали наизусть… Таким образом, вы испытали психологический срыв, позволив вашим волнениям занять то пространство в рабочей памяти, которое предназначалось для важных сведений.
В 1995 году в финале плей-офф чемпионата НБА команда Orlando Magic имела трехочковое преимущество над командой Houston Rockets. Ник Андерсон из Orlando встает на линию штрафного броска, чтобы заработать на последних секундах преимущество в пять очков и вырвать победу. Но Ник промахивается оба раза. Удивительно, но после второго броска он получает пас с подбора и право на штрафные. Андерсон возвращается на линию, полный решимости исправить ситуацию. Он бросает – и снова два промаха. Rockets умудрились сравнять счет и перевести игру в овертайм. Они победили в дополнительное время, выиграв и матч, и чемпионат.
За этот психологический срыв ответственность явно несет процедурная, или имплицитная память. Она управляет действиями таких спортсменов, как Андерсон, которые, казалось бы, отработали их до совершенства и должны действовать автоматически. Как это ни парадоксально, когда спортсмены хотят выполнить эти действия сознательно, они часто испытывают психологические срывы.
Представьте себе школьный вечер, ваша дочь впервые выступает на публике. Вы знаете, что она репетировала свою песню под гитару в течение многих недель и уже действует автоматически. Когда поднимается занавес, она выходит на сцену и мысленно напоминает себе, что должна держаться прямо, улыбаться, хорошо петь и играть на гитаре. Она смотрит на инструмент и вдруг, впервые за несколько недель, берет не тот аккорд. У нее психологический срыв.
Читать дальше