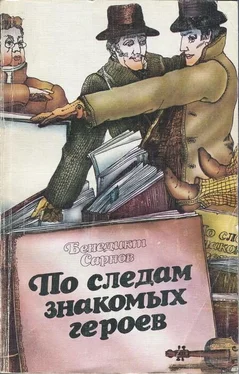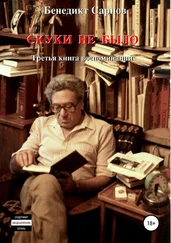— Выходит, версия Анны Павловны Шерер, будто Аракчеев сперва был против идеи военных поселений, неверна? — спросил Уотсон.
— Как бы то ни было, история прочно связала эту печальную страницу российской действительности с именем Аракчеева, — сказал Холмс. — Однако погодите, историческая справка об Аракчееве, которую я начал вам читать, еще не закончена.
— Вот как? И много там еще?
— Всего два слова: «Смотри — Аракчеевщина».
— Что ж, давайте выполним это указание.
Перелистнув страницу, Холмс прочел:
— «Аракчеевщина — политика крайней реакции, полицейского деспотизма, проводившаяся А. А. Аракчеевым. Палочная дисциплина и муштра в армии, жестокое подавление общественного недовольства».
— Да-а, — протянул Уотсон. — Видно, не зря имя человека стало нарицательным. Так вы, стало быть, предполагаете, что Пушкин уже тогда понимал, какая это была зловещая фигура?
— Предполагаю? — удивился Холмс. — Нет, Уотсон. Это слово тут неуместно. Я не предполагаю. Я это знаю точно.
— Откуда?!
— Ну, во-первых, из довольно знаменитой пушкинской эпиграммы, которую вам, Уотсон, тоже не мешало бы знать.
И прочел на память:
«Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он, преданный без лести?
Просто фрунтовой солдат!»
— Крепко сказано, — покачал головой Уотсон.
— В особенности, если представить себе, как это звучало на фоне официального, восторженного верноподданного сюсюканья, которое только что продемонстрировала нам Анна Павловна Шерер. А ведь эта эпиграмма не единственная.
— Ну да?
— Была еще одна. Более краткая, но не менее выразительная.
Холмс продекламировал — медленно, со вкусом:
«В столице он капрал, в Чугуеве — Нерон:
Кинжала Зандова везде достоин он».
— Что это значит — «кинжала Зандова»? — не понял Уотсон.
— Занд — это немецкий студент, убивший в 1819 году реакционного писателя Коцебу, — объяснил Холмс. — Это убийство в пушкинские времена было символом революционного патриотизма. Сказав об Аракчееве, что он достоин «Зандова кинжала», Пушкин, как вы сами понимаете, весьма сурово оценил деятельность этого царского сатрапа.
— Да, — согласился Уотсон. — Пожалуй, одной этой строки довольно, чтобы понять, как Пушкин относился к Аракчееву.
— Так что, как видите, мой милый Уотсон, в нашем распоряжении вполне достаточно материала, чтобы представить себе, какими красками мог быть написан портрет Аракчеева в пропущенной главе «Евгения Онегина».
— Вот именно, Холмс! Мог бытьнаписан, — саркастически заметил Уотсон, сделав особое ударение на словах «мог быть». — Не забывайте, друг мой, что все это не более, чем гипотеза. Весьма интересная, не спорю, в какой-то мере даже убедительная. Но всего лишь гипотеза!
Холмс был сильно задет этой репликой друга.
— По-моему, мы с вами достаточно давно знакомы, Уотсон, — оскорбленно заметил он. — Кому как не вам знать, что гипотезы Шерлока Холмса всегда подтверждаются неопровержимыми уликами.
— У вас есть доказательства?
— Только одно. Но зато не вызывающее ни малейших сомнений. Спустя век после смерти Пушкина в одном из архивов было найдено письмо Катенина. Да, да, того самого Павла Алексеевича Катенина, который, как вы уже знаете, считал, что главу о путешествии Онегина ни в коем случае исключать нельзя. Так вот, в письме к Павлу Васильевичу Анненкову, первому биографу Пушкина, Катенин…
— Простите, — не выдержал Уотсон. — Это письмо доступно? С ним можно ознакомиться?
— Вполне, — сказал Холмс.
Щелкнув замком, он откинул крышку бюро и, достав оттуда весьма ветхую, стершуюся на сгибах, пожелтевшую бумагу, протянул ее Уотсону.
— Вот. Можете убедиться, что Шерлок Холмс слов на ветер не бросает.
Осторожно развернув драгоценный манускрипт, Уотсон прочел:
— «Об этой главе „Онегина“ слышал я от покойного Александра Сергеевича в 1832 году, что сверх Нижегородской ярмарки и Одесской пристани Евгений видел военные поселения, заведенные графом Аракчеевым, и тут были замечания, суждения, выражения слишком резкие для обнародования, и поэтому он рассудил за благо предать их вечному забвению и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую и как бы оскудневшую».
— Понимаете, Уотсон, — подвел итог Холмс, — глава как некое художественное целое уже не существовала. А те отрывки из нее, которые можно было сохранить, Пушкин решил напечатать в виде приложения к роману.
Читать дальше