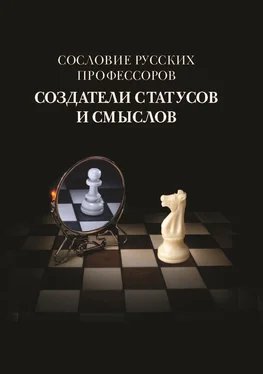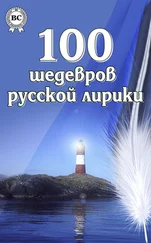Вместе с тем параллельно с ведомственными нарративами (региональными университетскими или министерскими) с конца XIX в. стали появляться иные варианты корпоративной истории – иллюстрирующие эволюцию системы через развитие студенческого движения [147]или созревание профессиональной, профессорской среды. В их центре оказывались также просветительные аспекты университетской жизни или долгий путь к самоорганизации. Правительство же выступало скорее как тормозящая или препятствующая сила. Важный и актуальный еще до революционного взрыва 1905 г. лозунг «университетская автономия» был спроецирован на прошлое российской школы, в том числе на довольно отдаленные десятилетия [148].
Отметим, что авторами этих трудов были, как правило, публицисты или представители нестатусных университетских групп. На примере научных биографий Рождественского и Багалея видно, как специализация на истории образования или прошлом своего университета органично включилась в круг приоритетных изысканий «цеховых» историков (и перестала быть почетной обязанностью, возложенной на того или иного талантливого профессора вроде словесника С.П. Шевырёва или ориенталиста В.В. Григорьева).
Наконец, в начале XX в. история университета стала включаться в состав общей истории культурного развития страны или эволюции науки и естествознания (в качестве характерных примеров могут рассматриваться «Очерки истории русской культуры» П.Н. Милюкова и дореволюционные труды В.И. Вернадского).
Запрет и восстановление преемственности
Сокрушительный удар по прежним образам и стратегиям университетских самоописаний нанесли идеологические кампании советской власти (внедрение нового устава 1921–1922 гг. и фактическая ликвидация университетов в 1930–1932 гг.). Их разрушительное воздействие усилили идеологические проработки 1930-х и особенно конца 1940-х годов. В результате императорский университет с его ценностями самоуправления и свободы мысли был замещен советской «фабрикой знаний» высшего разряда [149]. На эту перемену работало и общее расширение сети и контингента университетов. К тому же, вопреки заветам Вильгельма фон Гумбольдта, научные исследования в советских университетах были отделены от обучения и сосредоточены или в отраслевых институтах, или в учреждениях Академии наук.
Все это, разумеется, прямо и непосредственно отразилось на практиках университетского самоописания. На самый сложный для российской науки (в том числе университетской) 1919 год, связанный с недоеданием и гибелью ученых, дефицитом ресурсов, гражданским кровопролитием, пришелся столетний юбилей Санкт-Петербургского университета, подготовка к которому началась еще в годы Первой мировой войны. Усилиями С.В. Рождественского и при содействии местных органов Наркомпроса был издан обширный том материалов по ранней истории университета (всего лишь один из десятка запланированных). Но сразу же в весьма жесткой рецензии на него историк революционного движения и один из лидеров «левой профессуры» М.К. Лемке предрек, что в случае реализации всего проекта «мы будем иметь удовольствие видеть исчезновение массы бумаги ради очень и очень небольшого числа специалистов по истории высшего образования в России, кому они действительно могут быть нужны» [150].
Лемке был настроен весьма критически к старой профессуре и прежним университетским порядкам (особенно на историческом отделении, куда он попросту не был в свое время допущен коллегами). Но так мыслил не только он, это было духом времени. После 1920 г. на Украине университеты были попросту ликвидированы и реорганизованы в институты народного образования. На страницах тогдашней печати этот факт рисовался как исключительно прогрессивный и необходимый: «Если бы революционное движение на Западе в своих школьных преобразованиях резко разбило – раскололо – университет, то мы могли бы с уверенностью сказать, что перед нами революционная борьба, аналогичная нашей, с аналогичным же успехом. Но тот факт, что соглашательские социал-демократы в период, когда они могли это сделать, но не тронули университета, является своего рода показателем всего темпа революции на Западе (курсив наш. – Е.В., А.Д. ). И обратно: то обстоятельство, что как раз на университет мы направили свой основной удар, лучше всего свидетельствует о том, что этот удар мы делали в темп нашей коммунистической революции» [151].
Главной формой противоположной тенденции – легитимации университетской традиции – с середины 1920-х годов стала отсылка к революционному студенческому движению [152]и к заслугам прогрессивной профессуры. По мере приближения к рубежу 1917 г. эти профессора представлялись оппозиционной и страдающей группой, третируемой либералами и националистами. Данная стратегия перепрофилирования традиции легла в основу появившейся в 1930-м г. обширной истории Казанского университета (двухтомного труда молодого историка М.К. Корбута, через несколько лет после этого репрессированного [153]).
Читать дальше