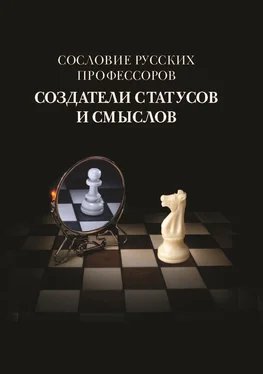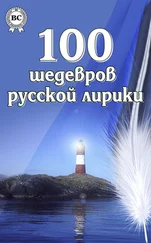Для того чтобы подчеркнуть собственные заслуги в развитии университетов, до-уваровские чиновники использовали метафоры «руины» и «расцвет». Почти каждый вновь назначенный попечитель обнаруживал подведомственный ему университет в руинах и оставлял его в цветущем состоянии. А его преемник вновь стоял среди руин. Такая метафорика не позволяла утвердить линейное развитие, замыкая университетское прошлое в цикличные круги. В николаевское время изменился язык делового письма, практикуемый по ведомству просвещения. Тогда попечителями служили не по несколько лет, как раньше, а десятилетиями. Разоблачения и критика предшественников решительно пресекались верховной властью как порочащие честь мундира и подрывающие лояльность подданных. В поступающих отчетах администраторы сообщали об «усовершенствовании», «развитии», «улучшении» и «преемниках», что позволяло представить текущую историю как линию прогресса.
Основанная на идее прогрессивного исторического времени, уваровская концепция сняла уже закрепившееся к тому времени противопоставление России Западу как варварства – цивилизации [118]. Поскольку министр был сторонником идеи «особого пути» для России, отечественные университеты представлялись ему национальным явлением, а не частью универсальной культуры. Уваров ни разу не упомянул о призыве иностранных профессоров и о трудностях вживания университетских людей в локальную культурную среду. Он писал об университетах как о «русских» и как о всегда бывших. В создаваемом им дискурсе государство являлось единственным архитектором российского просвещения. Университетам отводилась роль средства для реализации правительственных намерений и фрагмента государственной машины («орудие Правительства» [119]).
Изобретение Уварова имело долгосрочные последствия для будущей историографии российских университетов и конструирования ими своей традиции. Изложенная министром логика развития университетов, понимание их назначения легли в основу разработанной его подчиненными системы сбора первичных данных с университетов. Формуляры отчетных документов, спускаемые из Санкт-Петербурга, были сделаны таким образом, что вписанные в них данные представляли профессоров и студентов обезличенной массой «учащих» и «учащихся», а сам университет – государственным учреждением [120]. А ведь именно эти документы служили и продолжают служить главными историческими свидетельствами для историков.
Поиски традиции
Коллективное творчество по созданию общей традиции началось в российских университетах в связи с предстоящими юбилеями. Оценивая современное состояние университетской жизни как критическое, профессорские советы пытались самоопределиться, сформировать свое социальное назначение и корпоративное прошлое или просто получить причитающиеся по такому поводу благодеяния от властей. И если провинциальные университеты свое прошлое помнили так, как дозволяло им помнить министерство [121], то москвичи попытались выйти из ущемляющего университетское достоинство государственнического дискурса.
К столетнему юбилею университета в Москве планировалось составить своего рода сборник агиографических текстов о его служителях и соединить университетское торжество с празднованием 1000-летия «изобретения церковных Славянских письмен, которое совершилось в 855 г.» [122]. Таким образом, университетская история предстала бы завершением духовного просвещения Руси-России. И поскольку в такой связи профессора являлись прямыми продолжателями дела христианских просветителей, то юбилейные издания предлагалось обогатить «историей славяно-русских письмен» и «жизнеописанием Св. Первоучителей Славянской грамоты Кирилла и Мефодия» [123].
Несмотря на первоначальную установку, опубликованная в 1855 г. «История Московского университета» С.П. Шевырёва не образовала линию, выходящую за пределы имперского времени. С одной стороны, война 1812 г. и московский пожар создали в ней явный разрыв, а с другой – имевшиеся в распоряжении историка источники повествовали не о тысячелетнем, а только о столетнем периоде и о двух разных университетах внутри него: о Московском университете XVIII в. и об императорском университете в Москве первой половины XIX в.
Единую нить, на которую автор нанизал почерпнутые из них сведения, образовал тезис о стремлении российских монархов просвещать подданных [124]. Глористические мотивы и утверждения, что Николай I завершил просветительское дело Петра I и создал из отдельных школ систему российского образования, нередко звучали в те времена в университетских стенах. Об этом, в частности, говорил А.В. Никитенко на торжествах 1838 г. по случаю переезда Санкт-Петербургского университета в здание Двенадцати коллегий [125]. Но в речах это была дань одическому жанру, и она не требовала обоснования.
Читать дальше