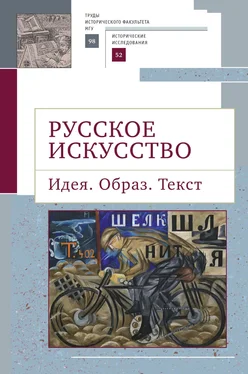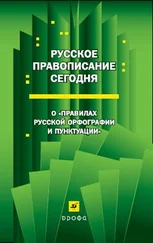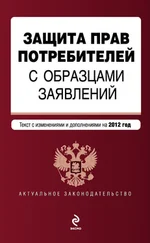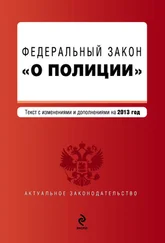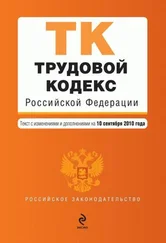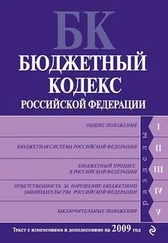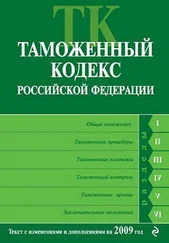Эта история, как и другие агиографические тексты, отдает первенство чудесным, сверхъестественным обстоятельствам, при которых иконописец овладевает своим ремеслом. Однако один из ключевых мотивов рассказа о гусаре взят из античной литературной традиции. Это соревнование между двумя мастерами, итог которого, как в повествовании о Паррасии и Зевксисе, определяется тем, что одно из произведений своей иллюзионистической достоверностью вводит в заблуждение животных или человека и потому признается лучшим. И мотив чуда, и мотив соревнования в данном случае можно было бы признать литературными топосами, ничего не говорящими о средневековом отношении к мастеру и о его собственном самосознании. Тем не менее их сочетание в одном тексте весьма симптоматично, т. к. оба они приводят читателя к выводу о том, что по каким-то причинам один живописец может быть «гораздее» другого. Это общее соображение подкрепляется упоминанием о зависти, которую испытывал Хинар, хотя она и была вызвана письмом Иоанна Богослова, принесенным отроком. Кроме того, сказание показывает, что мастерство иконописца хотя бы иногда может оцениваться по произведениям, не имеющим культовых функций, – например по дворцовым росписям светского содержания, которые в нормальных условиях вряд ли позволяли говорить о подражании сакральным образцам и сверхъестественной инспирации художника.
Разумеется, победа гусаря и в этом случае является следствием покровительства со стороны Иоанна Богослова (видимо, не зря мастерам было приказано изобразить орла – символ этого евангелиста согласно одному из толкований). Однако до прибытия в столицу отрока-гусаря палаты украшал живописью именно Хинарь, явно выбранный императором и получивший статус «царского писца» за свое мастерство. Рассказ о гусаре свидетельствует не только о возможности прижизненного признания художника, но и о существовании конкуренции в среде иконописцев, в том числе – о соперничестве между представителями разных поколений. Появление имени Хинара (Хинаря) в стихотворении Феодора Продрома позволяет высказать осторожную гипотезу об относительной исторической достоверности сказания. Но даже если видеть в нем чисто литературный конструкт, в глазах средневекового читателя он выглядел как описание реального случая, свидетельство и о чуде, и о повседневных человеческих отношениях. Необычный путь формирования репутации юного мастера в данном случае одновременно затеняет и оттеняет традиционный способ ее создания, сопровождающийся завистью и гордыней – чувствами, осуждаемыми как греховные, но существующими в реальной жизни и имеющими прямое отношение к проблеме авторского самосознания.
Двойственность восприятия иконописца отражена и в некоторых древнерусских текстах, причем не только агиографических 90. Новгородец Добрыня Ядрейкович (будущий архиепископ Антоний), побывавший в Константинополе в самом начале XIII в., упоминает «Павла хитрого», который «при животе» (при жизни) русского паломника писал «в крестильнице водной» Софии Константинопольской изображение Крещения Господня «с деянием», а также выполнил какую-то икону Спаса по заказу патриарха 91. Добрыня Ядрейкович высоко оценил сцену Крещения, имея в виду, скорее всего, сложность ее иконографии, но, возможно, обратив внимание и на художественное качество живописи. Расплывчатая констатация того, что «таково писмени» больше нет, могла быть заимствована из пояснений искушенных жителей Константинополя, но факт их цитирования означает, что эти сведения совпали с личными впечатлениями провинциала Добрыни, или что Добрыня, в данном случае веря на слово грекам, в принципе допускал существование выдающихся иконописцев. Следовательно, умение оценить искусство конкретного живописца или по крайней мере знание о возможности такой оценки было присуще не только образованным византийцам, воспитанным на античной словесности и помнившим о литературных похвалах великим мастерам древности, но и хотя бы некоторым новгородцам. Что касается «Павла хитрого», то он известен и по другим источникам, показывающим, что его упоминание Добрыней Ядрейковичем не было случайным: очевидно, именно он как «знаменитый в древности живописец» (а точнее, «древний Павел, лучший из живописцев»), автор конного образа св. Георгия на стене императорского дворца, упомянут в «Истории ромеев» Никифора Григоры – византийского писателя первой половины XIV в. 92Характерно, что изображение, написанное знаменитым мастером, стало чудотворящим: по словам Григоры, однажды ночью конь мученика заржал, предрекая военную неудачу императору Андронику II.
Читать дальше