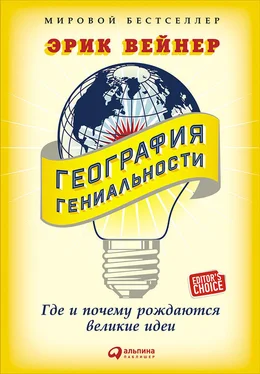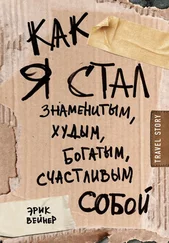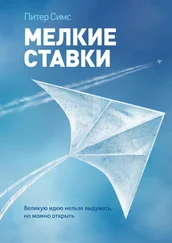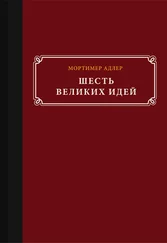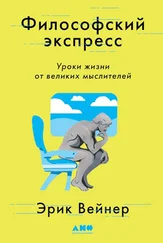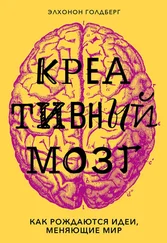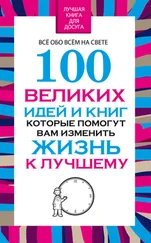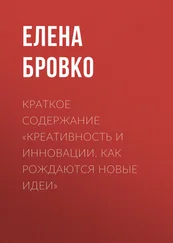Кофейня полнилась не только новостями, но и мнениями. Как объясняет Стефан Цвейг, это была ходовая валюта того времени, пользующаяся оживленным спросом.
Мы ежедневно просиживали там часами, и ничто не ускользало от нас. Ибо благодаря общности наших интересов мы следили за orbis pictus (буквально: «мир в картинках». – Ред. ) событий в мире искусства не двумя, а двадцатью или сорока глазами; что пропустил один, высмотрел другой; в нашем неуемном познании нового и новейшего мы по-детски хвастливо и с почти спортивным азартом стремились обставить один другого и прямо-таки ревновали друг друга к сенсациям.
Но прежде всего люди получали здесь общение и единомышленников, попутчиков. Завсегдатай кофейни был человеком особого типа – тем странным сочетанием интроверта и экстраверта, которое характерно для многих гениев. Как сказал Альфред Польгар в своем замечательном эссе «Теория кафе „Централь“» (1927), ее обитатели – это «люди, чья враждебность к ближнему столь же велика, сколь и потребность в нем; которые хотят быть одни, но нуждаются для этого в компании». Отменно сказано. Так и представляется архипелаг одиноких душ: да, это острова – но острова, расположенные неподалеку друг от друга. И эта близость все меняет.
Венская кофейня – яркий пример «третьего места». «Третьи места», в отличие от первых двух (дома и работы), представляют собой нейтральное и неформальное пространство для встреч. Вспомните бар из сериала «Веселая компания» или любой английский паб. «Третьими местами» могут быть и другие заведения – парикмахерские, книжные магазины, пивные сады, кафе-столовые и универмаги. Их объединяет то, что все они – «освященные территории», «временные миры внутри мира обычного», как писал Йохан Хёйзинга в своей книге «Человек играющий» [61].
Болтовня, наполнявшая кофейни, чем-то напоминала импровизации музыкантов и комедийных групп. Эта форма разговора значительно лучше стимулировала хорошие идеи, чем бесконечные «творческие консультанты» со своими мозговыми штурмами. Само выражение «мозговой штурм» звучит заманчиво, но по сути толку мало. В пользу этого говорят десятки исследований. Люди порождают больше хороших идей – в два раза больше – наедине, чем совместно.
Одна из проблем мозгового штурма состоит в его искусственности: не встанем из-за стола, пока не придумаем нечто Великое. Необходимость создать Великое давит на психику, да и опирается мозговой штурм почти исключительно на внешнюю мотивацию. Все это малопродуктивно. В кофейне же обстановка была раскованнее: люди просто разговаривали, как в калькуттской адде, а не следовали пунктам программы. Как сказал Польгар, «пребывание освящается отсутствием цели».
Я не хочу сказать, что в кофейнях не возникали хорошие идеи, – очень даже возникали. Но они оформлялись впоследствии – когда рассеивался сигаретный дым, выводился кофеин, а новая информация прочно оседала в сознании. Мы собираем факты в компании других людей, но связываем их в единое целое самостоятельно.
Подчас самое простое объяснение и есть самое лучшее. Быть может, венскую кофейню сделало уникальным местом… кофе? Но увы: для таких кофеманов, как я, факты неутешительны. Кофеин усиливает возбуждение, но отнюдь не творчество. Возбуждение не позволяет рассеиваться вниманию, а значит, снижается вероятность того, что мы будем проводить те неожиданные взаимосвязи, которые отличают творческое мышление. Кроме того, кофеин отрицательно сказывается на качестве и количестве сна. Между тем исследования показывают, что люди, лишенные «быстрого сна», хуже справляются с творческими задачами.
Значит, дело не в кофе. Чем же объясняется продуктивность кофеен? Я прислушиваюсь. Гудение кофеварки эспрессо, гул импровизированной беседы, шелест листаемых газет… Когда мы представляем себе идеальные места для размышления, перед мысленным взором чаще возникают места тихие: сказываются книги вроде «Жизни в лесу» Торо, которыми нас настойчиво потчевали, да еще привычка библиотекарей шикать на посетителей. Хотя, как выясняется, тишина не всегда оптимальна.
Команда ученых под руководством Рави Мехты из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне установила: люди, на которых воздействует умеренный уровень шума (70 децибел), лучше справляются с заданиями на творческое мышление, чем люди, действующие в условиях более высокого уровня шума или полной тишины. По мнению Мехты, умеренный шум позволяет нам входить в «состояние рассеянной, разбросанной сфокусированности». Это идеальное состояние для творческих прорывов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу