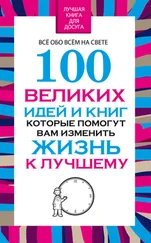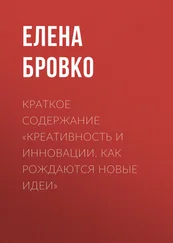Интересно, думаю я: люди хлопают от души – или лишь потому, что видят в Бронфмане виртуозного пианиста? Может, дело не в музыке, а в «моцартовском» маркетинге? Вопрос не бессмысленный. О чем бы ни шла речь – о романе, симфонии или последнем блокбастере, – мы редко воспринимаем его без посредников. В принципе, это нормально: уж очень обилен поток культурных возможностей. Однако в результате наше мнение предвзято: мы настраиваемся на то, что нечто нам понравится или не понравится. Впрочем, в реакции этой аудитории есть нечто живое и непосредственное. И дело не в знании музыки, думаю я, а в чуткости и открытости.
Бронфман снова начинает играть. Я мало-помалу прихожу в себя: зал обретает четкие очертания. Улетучивается желание сбежать. Нет, откровений я не переживаю – но определенно что-то чувствую. И это ощущение приятно, как от коктейля, но с остротой и ясностью, которые при виски невозможны. Вспоминаются слова Гёте, назвавшего музыку «архитектурой в звуке». Понятно, что он имел в виду. Я буквально слышу арки и портики, – хороводом они проносятся перед моим мысленным взором. Музыкальное озарение длится недолго – быть может, минут десять или пятнадцать, – но и этого достаточно. Ведь главное не продолжительность, а сила, интенсивность.
Потом я все-таки ухожу. Нет, я не устал от сонат, но заболели ноги и спина. В стоячих местах есть свои минусы. Когда я освобождаю место, его немедленно заполняют: словно в вакуум хлынул сжатый воздух.
Я возвращаюсь в гостиницу. Прохожу мимо албанских Моцартов, органистов и авангардных граффити. И меня охватывает глубокое чувство благодарности: благодарности к музыке, которая написана лет двести назад, а звучит так, словно это было вчера. И благодарность к городу, который ее взлелеял. Неудивительно, что Моцарту и Бетховену было здесь хорошо: за них «болел» весь город. И не просто «болел»: публика того времени, как и публика, частью которой я стал на один вечер, была не пассивной потребительницей. Она подначивала и подталкивала музыкантов устремляться к новым высотам. Аудитория – хорошая аудитория – тоже на свой лад гениальна. Если она чувствует изъян, композитор может учесть это в дальнейшем. А когда он попадает в точку, что может быть слаще, чем искренняя овация людей, понимающих музыку?
Однако в моцартовской Вене была и еще одна, особая, аудитория. И, быть может, она имела особое значение. На ум приходят слова, сказанные У. Х. Оденом о поэтах:
Поэт мечтает о читателях прекрасных, которые ложатся с ним в постель; о читателях власть имущих, которые зовут его на обед и рассказывают государственные тайны; и о читателях-поэтах. В реальности же его читают близорукие школьные учителя, прыщавые юноши в кафетериях и собратья-поэты. По сути, это означает, что пишет он для поэтов.
Так музыкальные гении Вены сочиняли друг для друга. Моцарт сочинял для Гайдна, своего ментора и суррогатного отца. Гайдн учил Бетховена и в свою очередь находился под его влиянием. Бетховен писал для покойного Моцарта, настолько стараясь не подражать ему, что это отталкивание само превращалось в зависимость.
Это осознание приходит ко мне как один из редких, драгоценных и «терапевтических» прорывов. И очень вовремя: ведь нигде больше творческие гении не были переплетены между собой столь тесно и продуктивно, как в Вене Зигмунда Фрейда.
Глава 7
Гений заразителен: Вена на кушетке
Моцарт не узнал бы эту Вену.На дворе стоял 1900 г. Минуло столетие – и город разросся вдесятеро. Что только не случилось за это время: и недолговечная революция, и вспышка холеры, и финансовый коллапс. Но число гениев поубавилось. Правда, был Брамс, но один гений не делает золотого века, а половина столетия, прошедшая после смерти Бетховена в 1827 г., не изобиловала звездными талантами. Казалось, Вена отбыла по той же улице с односторонним движением, что Афины с Флоренцией и прочие очаги гениальности. И вдруг – разворот на 180 градусов: все оживает заново. По совпадению новый подъем начался со строительства роскошного бульвара.
Рингштрассе («Кольцевая дорога») была самым амбициозным городским проектом после реконструкции Парижа – воплощением веры в прогресс, будоражившей умы. Новый император, Франц-Иосиф I, приказал разобрать старые средневековые стены, чтобы освободить место, по выражению одного историка, «этому прообразу Диснейленда». Новая улица явила городу сентиментально-оптимистическую мечту о завтрашнем дне. «Когда выходишь на новенькую Рингштрассе, – сказал в ту пору один водитель трамвая, – думаешь о будущем».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу