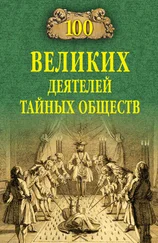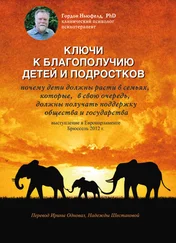Анализируя данный случай, следует иметь в виду, что сын известного военачальника и крупного чиновника, конечно, мог быть вовлечен в следствие намного более серьезно, если бы к моменту первого допроса обнаружилась более значительная степень его виновности. Расследование степени «прикосновенности» было остановлено повелением императора. Поэтому исследователи лишены возможности в полной мере оценить истинную роль сына главнокомандующего 2-й армией в декабристском обществе.
В число привлекавшихся к допросам без «арестования» вошли члены Союза благоденствия И. П. Шипов, И. А. Долгоруков, Ф. П. Толстой. Показания против них касались очень опасного эпизода – Петербургских собраний руководства Союза в начале 1820 г., где обсуждалась форма правления, к которой следовало стремиться тайному обществу в его планах политических преобразований. Вскоре из поступивших показаний Комитет выяснил, что на этих собраниях «находились некоторые лица, которые вовсе Комитетом еще не допрошены и не очищены надлежащим изысканием». Среди них были те, кто уже получил «высочайшее прощение» и был освобожден от дальнейшего следствия: Ф. Н. Глинка, И. П. Шипов и И. А. Долгоруков. Ф. П. Толстого же ранее не имели в виду вовсе. Комитет, однако, счел возможным обратиться к императору с просьбой об их привлечении в той или иной форме к расследованию [149] ВД. Т. XVI. С. 89.
. В связи со вновь возникшими обстоятельствами император повелел привлечь этих лиц к следствию, не прибегая к аресту.
Иван Павлович Шипов,в 1825 г. – полковник Преображенского полка, вступил в Союз спасения в 1817 г., затем состоял в руководящем Коренном совете Союза благоденствия. Из показаний подследственных стало известно, что после 1821 г. Шипов вместе с Н. М. Муравьевым и М. С. Луниным участвовал в попытках создания нового тайного общества, но в 1822 г. отошел от конспиративной активности. Однако из показаний явствовало, что и после этого он знал о декабристском союзе и поддерживал связи с его членами [150] Показания А. В. Поджио, М. Ф. Митькова, Е. П. Оболенского, М. С. Лунина: ВД. Т. I. С. 238; Т. III. С. 196, 122–123; Т. XI. С. 48, 60, 82.
. После получения первых обвиняющих данных (сведения из доноса А. И. Майбороды и показания Трубецкого) император в начале января 1826 г. «простил» Шилова и освободил его от дальнейшего расследования [151] ВД. Т. XX. С. 24; Т. XVI. С. 90.
.
Повторное привлечение Шилова к следствию имело своей причиной показания об участии в Петербургских совещаниях 1820 г. на квартире Ф. Н. Глинки, сделанные 13 января П. И. Пестелем и затем подтвержденные С. Муравьевым-Апостолом и Н. М. Муравьевым. Последние двое свидетельствовали также об имевшем место отдельном собрании на квартире самого Шилова, где, согласно показаниям указанных лиц, обсуждался возможный акт цареубийства при введении республиканского правления. Подобные обстоятельства, по оценке следствия, «столь серьезно… обвиняющие» всех участников совещаний, вызвали особую докладную записку Комитета императору от 9 февраля, с изложением содержания показаний и запросом на привлечение к следствию Шилова и других лиц, которые «вовсе еще Комитетом не допрошены и не очищены надлежащим изысканием». В записке следствие решительно ставило перед императором вопрос о привлечении этих лиц к процессу: «если действия и участие в тайном обществе помянутых князя Долгорукого, Шилова и Глинки… останутся без исследования, то высочайше порученное Комитету толико важное дело не будет совершенно полное, а от того может произойти впоследствии затруднение в производстве суда» [152] Там же. С. 90. Текст записки: ВД. Т. XX. С. 23–25.
. Сам факт появления этой записки весьма примечателен: Комитет выносил решение этого вопроса на усмотрение императора. Следствие заявляло перед ним необходимость привлечения данных лиц к расследованию, указывая на важный характер обвинения. В связи с тем, что к этому времени уже состоялись акты «высочайшего» прощения Глинки и Шилова, вопрос приобретал принципиальный характер: Николаю I необходимо было решить – отменить данное им прощение, нарушив тем самым слово самодержца, или нет. Император решил формально не отменять акта прощения. Глинку и Толстого Николай I разрешил привлечь к допросам не арестованными, а для Шилова и Долгорукова составить вопросные пункты и потребовать написать письменные ответы-показания [153] ВД. Т. XVI. С. 97.
. Таким образом, последние привлекались к допросам заочно, – им доставлялись вопросные пункты через великого князя Михаила Павловича. Толстой, как и Глинка, был вызван «в присутствие» Следственного комитета без ареста, а затем, после устного допроса и дачи письменных показаний, благополучно возвратился домой [154] См. об этом эпизоде в его воспоминаниях: Записки графа Ф. П. Толстого. С. 220–223.
.
Читать дальше
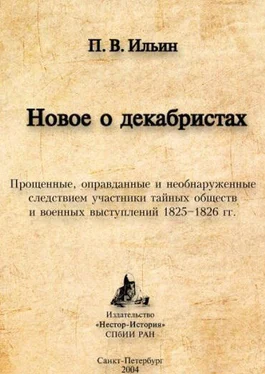

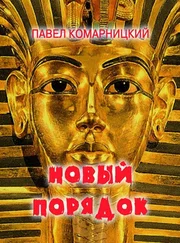

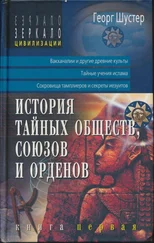

![Ефим Черняк - Невидимые империи [Тайные общества старого и нового времени на Западе]](/books/433461/efim-chernyak-nevidimye-imperii-tajnye-obchestva-sta-thumb.webp)